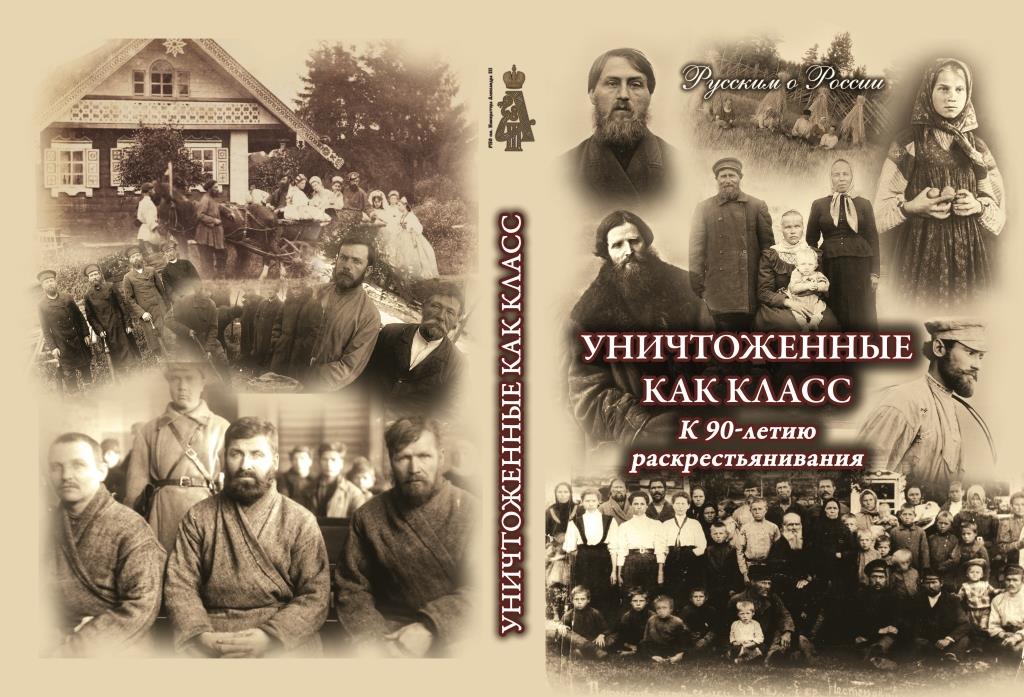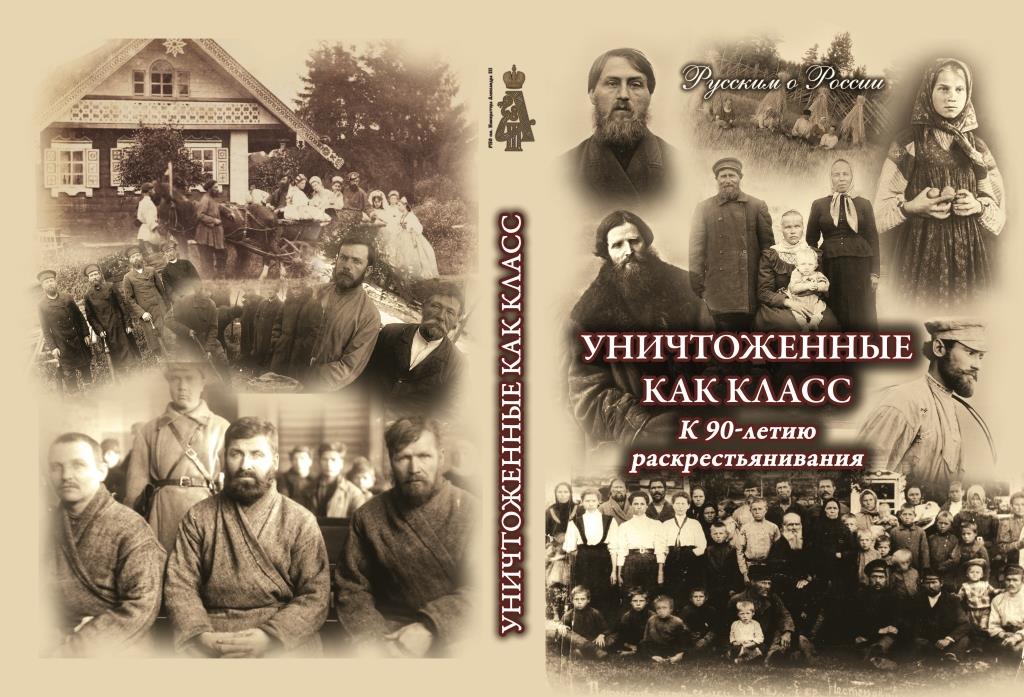
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Н. Рубцов
Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю…
В. Белов
Коллективизация является одной из самых страшных катастроф во всей русской истории, сопоставимой лишь с нашествиями Батыя и Гитлера.
Каковы подлинные последствия коллективизации?
На обыденном уровне – это вопрос крестьянки Екатерины Федотовны Трофимовой (1919 г.р.) из д. Новопестери Беловского района Кемеровской области: «До революции Россия была в состоянии прокормить себя. Она кормила и Европу. Куда это потом делось? У нас в деревне до коллективизации было изобилие всего. Мясо мы ели и отварное, и жареное, и вяленое. В нормальном хозяйстве на зиму забивалось 8-10 туш скота. Рыба – любая. Блины – с икрой. Масло хранилось в бочках. Где всё это теперь?»[1]. На более фундаментальном уровне – это вопрос о том, почему русские области вымирают с 1960-х годов, а население всей России сейчас меньше, чем оно было до 1917 года – вместо спрогнозированного Д.И. Менделеевым полумиллиарда к концу ХХ века?
Коллективизация сломала хребет русскому народу – она уничтожила лучшую часть крестьянства, а почти всех остальных превратила в люмпенов с рабской психологией, утративших трудовую этику предков. Превращая народ в колхозных рабов, она убила народную душу и обвально снизила рождаемость, лишив смысла большие крестьянские семьи – так нынешнее катастрофическое вымирание России было начато именно коллективизацией.
Еще в 1919 году большевики вынуждены были официально признать, что «трудность работы в деревне состоит в том, что надлежит организовать массы мелких собственников, по существу своему враждебных социализму, а потому основной организацией в деревне являются пролетарские и полупролетарские слои»[2]. Однако сколько было этих «пролетарских и полупролетарских слоев»? Как сообщал выдающийся исследователь русского крестьянского хозяйства А.В. Чаянов, «по данным ЦСУ СССР на август 1926 г., на 100 хозяйств приходится годовых, сроковых и месячных наемных рабочих по Северному Кавказу – 11,8, по Днепропетровску – 9,0 и по Крыму – 22,7, в то время как в аграрно-перенаселенной черноземной полосе – 3,2, а по правобережью Украины – 6,2»[3]. При этом большинство этих наемных рабочих также имели свое хозяйство, но одновременно подзарабатывали у своих более зажиточных соседей. Тем самым, это было сотрудничество и взаимопомощь, а не так называемая «эсплуатация». Главное же состояло в том, что эти батраки были сколько-нибудь заметным элементом только в нерусских областях Кавказа (1/10 крестьян) и у крымских татар (1/5), в русских же областях эта группа была совершено мизерной – около 3 процентов, или «несколько дворов на большое село», как это и зафиксировано во многих воспоминаниях. Тем самым, так называемых «пролетарских и полупролетарских слоев» в селе практически не было, за исключением единичных случаев – как правило, это были люмпены, ленившиеся нормально вести свое собственное хозяйство. Вот именно на них и делали ставку большевики. Естественно, что это с самого начала был блеф, и село, враждебное социализму, предстояло завоевать путем зверского террора, а крестьян сделать рабами государства.
Катастрофа 1917 года сделала невозможным нормальное развитие экономики России. Промышленность не могла развиваться из-за отсутствия частных капиталов, а государственные средства были мизерными. Эти средства можно было получить только за счет самой зверской эксплуатации крестьян и самого дешевого, полурабского труда рабочих. Перед 1917-м годом крестьянам и казакам уже принадлежало 80 процентов всей земли, а оставшиеся 20 процентов – городским арендаторам и последним остаткам помещиков. Но эти 20 процентов, как правило, были самыми передовыми механизированными хозяйствами, дававшими огромную долю всего экспорта сельхозпродукции. Если бы не 1917-й год, сельское хозяйство быстро бы развивалось по самому оптимальному пути – укрупнения частных хозяйств, отдавая избыток населения в индустриальные города и переселенцев на Дальний Восток и в Сибирь. Но 1917-й вернул натуральное хозяйство, резко сократил экспорт и остановил освоение Востока. Развитие крестьянских хозяйств было заблокировано по причине «налогового обложения, носящего подчас запретительный характер в отношении расширения хозяйства. Хозяйственно расширившееся крестьянское предприятие может уплатить высшую ставку налога, но психологически получающаяся в этих условиях выручка не окупает в глазах хозяина необходимого для расширения хозяйства напряжения усилий»[4]. Это был тупик, искусственно созданный большевиками и особенно катастрофический на фоне стремительного роста экономики перед 1917-м годом. У них остался единственный выход – заставить крестьян бесплатно работать на государство и уничтожить тех из них, кто будет этому сопротивляться.
Крестьяне везде сопротивлялись порабощению, как могли, но не могли устоять перед организованной вооруженной силой государства. Вот один из многотысячных примеров: «Так и думалось, что готовится что-то для нас нехорошее. На собраниях комитетов бедноты выносились постановления о ссыпке хлеба в общие амбары. По этому вопросу были общие собрания всех граждан, но большинство крестьян были не согласны. Последнее собрание было… бурное, к решению вопроса не пришли, и всех несогласных арестовали. На следующий день… составили от имени всех собравшихся прошение об освобождении невинно арестованных, но ответа не получили. На другой день все собравшиеся… пошли с целью добиться освобождения арестованных. Толпа была около 150 человек. Их предупредили, что это будет рассматриваться как выступление против Советской власти, но когда толпа близко подошла к райисполкому, по ней дали залп из винтовок, шесть человек убили, тридцать пять ранили. Остальные бросились бежать…»[5]. Комитеты бедноты» при поддержке террористического большевистского государства действовали как обычные бандиты: сами не производя ничего, требовали собрать чужое, не ими выращенное зерно в общие амбары, чтобы затем распоряжаться им по своему усмотрению. А те, кто сопротивлялся этому грабежу и хотели защитить свой труд, были расстреляны войсками.
Коллективизация изображена по горячим следам в романе «Поднятая целина» М. Шолохова (первая книга писалась в 1932 г.), есть о ней строки в «Чевенгуре» и «Котловане» А. Платонова, а его повесть «Впрок» – уникальное произведение о коллективизации. Его прочитал Сталин и назвал Платонова «вражеским агентом», а саму повесть – написанной «с целью развенчания колхозного движения». Она была запрещена к печати, а на писателя организована травля, едва не стоившая ему жизни. Особое место в повести занимает история товарища Упоева, ежедневно тратившего «тело для революции» так, что даже его семья постепенно «вымерла от голода и халатного отношения к ней», а сам он в одну из ночей «сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали, чья власть». Повесть с ее сюрреалистическими образами и языком показала абсурд и катастрофизм происходящего.
В платоновском «Чевенгуре» «социализм уже случайно получился» и «людям некуда деться», настал конец истории. А. Платонов описывает жизнь коммуны, основанной, как и колхоз, на «равенстве» всех – равенстве в нищете и рабстве у государства. Здесь пашню бросили, поскольку работник назвал себя «богом свободы», а труд объявили «пережитком жадности», способствующим «происхождению имущества». Никто в коммуне не сеет, не жнет, так как все «исполняют должности» (сбылась мечта шолоховского Щукаря о «портфеле»!). А. Платонов доводит идею коллективизации до абсурда и показывает крах Чевенгура. Эта гениальная фантасмагория – не только пророчество о конце СССР, но и лучшая из антиутопий ХХ века.
Сохранилось и достаточно много свидетельств о личном отношении писателей к коллективизации и страшному голоду. Б. Пастернак, узнав о том, что происходит, и лично увидев на ж/д станциях массы умирающих крестьян, которые пытались уехать в город и там спастись, пришел в ужас, был на грани самоубийства, «год не мог спать» и потерял способность к творчеству, занимаясь только переводами для заработка. Ужас человеческих страданий, увиденный им в 1930-33-м годах, в конце концов, привел его в Церковь. Но, к сожалению, большинство так называемых «советских писателей» не только не испытывали никакого ужаса и сострадания, но, наоборот, даже откровенно злорадствовали по поводу уничтожения «темного мужика», как М. Горький и многие другие вместе с ним. Ю. Тынянов, по свидетельству современников, называл колхозы «гениальным изобретением» Сталина.
Первое время в СССР «главным романом» о коллективизации считался роман «Бруски» Ф. Панферова. Ему даже посвятил очерк в эмигрантской печати Г. Адамович. Он писал: «…книга, которая за все время существования советской литературы имела наибольший официальный успех… Но Россия молчит. Вместо нее говорят только те, кому, в виде исключительной привилегии, это право предоставлено»; «иной средний “пролетарский” роман, о котором никаких толков не слышно, бывает как произведение художественное удачнее серых, тягучих, бескостных панферовских “Брусков”. Талант у Панферова, по-видимому, есть, но состояние этого таланта самое первобытное, самое сырое. Решив, что он “глубже Толстого и Достоевского”, Панферов, очевидно, находит, что ему как писателю над собой работать ни к чему»[6]. Сюжет романа прост и представляет собой простое нагромождение событий и лиц: «Было когда-то на берегу Волги барское поместье под названием “Бруски”. Барин умер до революции, поместье должно было достаться богатому мужику, “кулаку” Егору Чухлеву… Панферов ничего не выдумывает, да и не мог бы он выдумать столько положений, взаимоотношений, фактов, типов, лиц: это, несомненно, записи “с натуры”. Из этих записей плохо складывается роман, – и “Бруски”, повторяю, плохой роман, – но сами по себе записи интересны»[7]. Тем самым, хотя Ф. Панферов везде проводит «линию партии», наличие у всех его героев реальных прототипов придает роману некоторую документальную ценность.
В не менее официозной «Поднятой целине» все-таки показаны ужасы раскулачивания. Там есть сцены раскулачивания Фрола Дамаскова, Титка Бородина. М.Шолохов изображает раскулачивание как самый обыкновенный разбой, вызывающий возмущение и гнев. Грабители тоже рядовые: жадные до мелочности, развязные, безжалостные, упоенные превосходством силы. Что же касается «кулаков», их поведение не соответствует ситуации, ибо они не взывают о снисхождении, не валяются в ногах. М. Шолохов даже явно симпатизирует Титу Бородину, в прошлом красноармейцу, имеющему раны и отличия, которого его прежние товарищи по оружию теперь зачислили в кулаки. Раскулачивают они Тита Бородина как раз за то, что он – хороший работник, для которого труд – в радость. Автор как бы и не на стороне давыдовых-нагульновых. Он не только показывает всю бесчеловечность их поступков, но и откровенно иронизирует над одним из них – Нагульновым, в частности, над его стремлением смотреть на мир через призму давно канувшей в лету идеи мировой революции, – и над тем, как Нагульнов, выступая на собрании, откровенно и нагло лжет. Макару Нагульнову ничего не стоит ударить человека, под дулом нагана добиться ложного оговора, арестовать невинного, совершить самосуд. Отношение же народа к колхозам проскальзывает в отдельных острых репликах: «Раньше без колхоза жили, не указывали, как сеять и пахать»; «Трое работают, а десять под плетнем на прицыпках сидят, цигарку крутят». М. Шолохов не скрывает, что с коллективизацией согласны только крестьянские люмпены, типа деда Щукаря, которые никогда не имели своей собственности, не умели трудиться, а потому колхоз для них – действительно «рай»: не очень-то утруждая себя, можно делать вид «полезного человека».
М. Шолохов показывает, что в основном те, кого раскулачивают, – труженики, умные, грамотные хозяева – это Тит Бородин, Фрол Дамасков, Гаев, Тимофей Рваный. Один из них говорит: «Жизня такая, что, если б банда зараз была, сел бы на коня и начал коммунистам кровя пущать!.. С кольями бы пошли, как вешенцы в девятнадцатом году!». Но у М. Шолохова трагедия коллективизации проскальзывает лишь отдельными штрихами, не развернута психологически и детально. Никого, даже автора, не смутило, что переустройством дел в деревне занялся Давыдов, слесарь Путиловского завода, городской человек, не знающий крестьянского труда. Давыдов – щербина во рту – зуба лишился по пьяному делу, татуированная грудь. Не любил он никого. «Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего… Кроличья любовь!» И в Гремячем Логу Давыдову не повезло: Лушка, за которой председатель колхоза принялся было ухаживать, и ему, и Нагульнову предпочла «кулацкого сынка». И вот этого человека партия направила на хутор организовывать колхоз!.. Казаки оценили это в первый же день: «Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он, кубыть, не ходил по своей рабочей жизни и, небось, к быку не знает с какой стороны надо зайтить». Хотя Давыдов ничего не смыслит в сельском хозяйстве, однако с «классовым» превосходством учит «темных» казаков уму-разуму: «Надо больше сеять, – заявляет он в своей «программной» речи, – надо организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа».
М. Шолохов заставляет одного из коммунистов – Разметнова – усомниться в справедливости совершаемого. Разговор Разметнова-Давыдова-Нагульнова – одна из ключевых сцен в романе. Председатель сельсовета опешившим секретарю партячейки и председателю колхоза прямо заявляет: «Раскулачивать больше не пойду». На том основании заявляет, что он «с детишками не обучен воевать!». Нагульнов отвечает: «Гад!.. Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь?» Затем Нагульнов произносит, пожалуй, самую страшную фразу в романе: «Да я… тысячи станови зараз дедов, детишек, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета… всех порежу!» Эти слова как нельзя лучше характеризуют представителей новой власти: нагульновы-давыдовы ради осуществления своих абстрактных и диких представлений о счастье готовы пожертвовать чем угодно, в том числе жизнями своих ближних. Андрей Разметнов из трех гремяченских руководителей – наименее фанатичный и наименее деградировавший персонаж – это человек, который еще не утратил окончательно все человеческое. Он еще способен испытывать чувство жалости. Он жалеет детишек раскулачиваемого Гаева. Ему еще присуща любовь к природе, правда, даже она проявляется у него в извращенной и жестокой форме: он всей душой привязывается к голубям, но вследствие этой своей трогательной привязанности истребляет на хуторе всех котов.
Раскулачиванию подверглись самые талантливые хозяева, те люди, которые любили и умели работать на земле. С другой стороны, мы видим, какими убогими, душевно бедными, нравственно уродливыми были те, кто проводил коллективизацию. В хуторе нет людей, заинтересованных в создании колхоза. Ставка делается на деревенскую бедноту, которой за вступление в колхоз предлагается своеобразная взятка – возможность узаконенного грабежа. Вы вступаете в колхоз, а мы вам разрешаем устроить погром в нескольких так называемых кулацких хозяйствах. Вот что говорит Давыдову один из представителей деревенской бедноты Любишкин: «Чего ты мне говоришь о колхозе?! Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство! А то все разговоры да разговоры “кулака уничтожить”, а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит». А когда получают согласие на грабеж: «Так мы же с дорогой душой в колхоз! Хоть нынче ночью!».
Но каким же образом удалось заставить пойти в колхоз середняка? М. Шолохов дал правдивый ответ и на этот вопрос: при помощи запугивания. Середняки идут в колхоз из страха стать очередной жертвой новой власти. После выхода в «Правде» статьи Сталина «Головокружение от успехов» люди, было, поверили, что нагульновым и давыдовым дан отбой и насилие прекратится, ринулись на волю, за одну только неделю из колхоза вышло около ста хозяйств. Однако свобода обернулась издевательской насмешкой: их выпустили, что называется, нагишом. Даже Нагульнов возмущается: «Почему выходцам не приказано было возвращать скот? Это не есть принудительная коллективизация? Она самая! Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают. Ясное дело: жить ему не при чем, деваться некуда, он опять и лезет в колхоз. Пищит, а лезет».
М. Шолохов обладал уникальной способностью, строго придерживаясь партийных указаний и идеологических установок, тем не менее показывать вполне правдивую картину страшных событий русской истории во всей ее сложности. Это касается и «Поднятой целины», и «Тихого Дона». Это можно объяснить тем, что для людей того времени идеологические установки стали чем-то сакральным, фактически заменившим религию, и поэтому их явное несоответствие реальности таких людей нисколько не смущало.
Но ситуация резко изменилась в «позднее» советское время, когда официальной идеологии уже никто не верил, но хотели узнать историческую правду. Здесь я позволю себе привести личное воспоминание. Мне пришлось проходить в школе «Тихий Дон» в «перестроечные» времена, в 1988 году (на нем и на «Молодой гвардии» тогда фактически и заканчивалось изучение русской литературы). Страшные сцены раскулачивания из этого романа мы не обсуждали, поскольку к М. Шолохову был некоторый пиетет как почти земляку и Нобелевскому лауреату. Однако параллельно с этим изучалась и украинская литература, к которой пиетета никто не испытывал. А там как раз проходили роман «Вир» («Водоворот») украинского писателя Григория Тютюнника (1920-1961), который в 1963 г. был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко и вошел в школьную программу для внеклассного чтения. Этот роман был написан с точки зрения «советского мировоззрения», но идеально подходил для того, чтобы это мировоззрение разрушить. В нем были сцены, связанные с коллективизацией, и именно они вызвали тогда у нас резкое отвращение и протест. Кратко приведу их здесь (цитирую по русскому переводу, изданному в Москве в 1983 г.).
Накануне войны, весной 1941 года, в селе на Полтавщине один чекист пишет донос на целую семью, разбирая их преступления перед советской властью. А именно: дед, старый Сазон «вместо того чтобы дезертировать из царской армии, он преданно воевал “за веру, царя и отечество”, был награжден двумя Георгиевскими крестами, которые у него не удалось изъять, потому что старик запрятал их… На коллективизацию дед смотрел косо и агитировал людей не обобществлять коров». Сын же его Лукьян «с самого детства “отравлен опиумом”, ходит в церковь аж в Ступки и еще в 1919 году был выдвинут церковной общиной в состав делегации, встречавшей архиерея. К советской власти относится враждебно: на собраниях всегда спит и не слушает, о чем говорят. На заем подписываться не хочет, ссылаясь на большую семью. Представителям из района задает контрреволюционные вопросы, например: “Кто же в колхозе будет работать, если вся молодежь бежит в город?”». А о невестке Лукьяна доносчик писал так: «Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, то есть на своем посту, зашел к гражданке Ляшенко, соцпроисхождения из середняков, и выяснил, что она не пошла на работу по случаю выпечки хлеба. Я сказал в вежливой форме, что она занимается саботажем, и приказал немедленно идти на работу в поле, где идет борьба за урожай. Она ответила, что не пойдет, пока не выпечет хлеб, тогда я взял ведро с водой и принял меры: залил в печи огонь…»
Всех возмутило три вопроса: 1) почему это правильно: дезертировать из армии, а не воевать за Отечество? И по какому праву у героя хотели отнять ордена? 2) Почему вера в Бога считается преступлением? И почему заем навязывают насильно, отнимая деньги у большой семьи? 3) По какому праву женщину выгоняют в поле, когда она печет хлеб, и тушат ей печь? Хотя было уже «перестроечное» время, но эти вопросы привели учительницу в ужас, и она не могла толком ничего сказать, так на этом все и закончилось.
Но еще колоритнее оказался другой Сазон, о котором упомянутый выше чекист рассказывает как о своем наставнике: «слесарь из харьковских мастерских. Приехал он в наше село в числе двадцатипятитысячников, коллективизацию проводить. Так себе, самый обыкновенный, седоусый, в кожаном картузе, среднего роста. Ну, приехал, орудует. А время тогда тревожное было… Ночью так и смотри: там горит, тут кулачье свои клуни поджигает, чтобы не досталось бедноте. Мне тогда было лет восемнадцать. Комсомолец. Портупею через плечо носил, за советскую власть готов был в огонь и воду… Заметил меня Сазон – так рабочего звали – и говорит: хлопец ты молодой, село знаешь, будь моим помощником. Ладно, говорю, охотно буду вам помогать. Вынул он из кармана список, глянул в него и спрашивает: “Где Прокоп Хвыля живет? Раскулачивать его пойдем”... У кулака – хата под железом, две клуни, два сарая, две пары волов, много сельскохозяйственного инвентаря: лобогрейка, сеялки, плуги, лущильник. Одним словом, здорово жил и крови из бедного люда высосал немало... А тут как раз наши хлопцы приступили к делу. Одежду несут, имущество переписывают. Набилась полная хата хуторян, помогают нам своего любимого земляка потрошить, шарят по закоулкам, чтобы чего-нибудь не проворонить. В хате шум, суета, крики. Зазевался я. Глядь – а горбуна и след простыл… Я к Сазону. Так и так, говорю, сбежал горбун. Он глянул на меня – глазами так и зарезал. “А ты, говорит, куда смотрел, раззява? Чтобы мне сейчас же горбун здесь был. Иначе революционным судом тебя судить будем”… Убежал горбун. Только я об этом подумал – что-то как кольнет меня в бок. Упал я на землю, хочу крикнуть и не могу: дух захватило. Больше ничего не помню. Уже потом рассказывали люди, что нашли меня без сознания с вилами в боку».
Здесь жалость к крестьянам, которые сами сжигают свое добро и бегут из села, сразу охватила нас. И почему это большое количество инвентаря свидетельствует не о трудолюбии, а о кровопийстве? Это полный абсурд и издевательство над правдой. А сцена с грабежом их хаты совсем накалила страсти до предела. Отношения между «коллективизаторами», среди которых сразу станешь сам врагом, если кто-то от них убежит – явно такие же, как и у бандитов. Поэтому по поводу вил вердикт был однозначный: правильно сделал, но жалко, что только ранил. Учительница снова была в шоке. Как видим, и самый «кондовый» советский роман мог стать саморазоблачением.
Второй этап обращения писателей к памяти о коллективизации начался со второй половины 1950-х годов в рамках «деревенской прозы», которая от заказного воспевания колхозной деревни обратилась к теме погибающей, вымирающей деревни – как результату коллективизации. Знаковыми и уже признанными классическими произведениями на эту тему стали «Матренин двор» А. Солженицына, «Привычное дело» В. Белова, «Живой» Б. Можаева, «Поездка в прошлое» Ф. Абрамова, «Овраги» С. Антонова. Наконец, с 1970-х годов начали создаваться вершинные произведения, уже непосредственно посвященные трагедии коллективизации – «Мужики и бабы» Б. Можаева, монументальная хроника В. Белова в трех частях – «Кануны», «Год великого перелома» и «Час шестый», «Касьян Остудный» И. Акулова, «Перелом» Н. Скромного. «Деревенская проза» (из этого названия некоторые хотели сделать издевательство, как когда-то и из слова «славянофилы», получилось же наоборот), совершила два подвига в современной русской культуре – вернулась к подлинным нравственным и художественным традициям русской классической литературы; и она первая дала подлинное понимание того, что произошло с русским народом в ХХ веке. Поэтому В. Астафьев справедливо назвал ее явлением уникальным и «мировым феноменом, родившимся из страданий и несчастий народа»[8].
А Ольга Славникова пояснила это с точки зрения новых поколений, искавших пищи духовной: «Главным было: не только в баснословные классические времена жили люди, о которых находилось что сказать. Мы – не провинциалы в историческом времени и пространстве, мы тоже живем, мы есть, и наш сегодняшний день, наша реальность так же плодоносят, как и великий XIX век <…> деревенский, ничего не читающий человек, проживший наедине с собой свою тяжелую жизнь, вдруг осознает свою незряшность, неслучайность своего прихода в мир, и шире – значимость и высокий смысл всякого человеческого дыхания. Старуха из повести “Последний срок” – это уже в полном смысле слова классический пример просветления духа, не имевшего помощи ни в религии, ни в литературе, но нашедшего все, что надо, в самой что ни на есть обыкновенной бабьей деревенской судьбе: “…после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет”. Таково общечеловеческое значение “деревенской прозы”… “Деревенская проза” всем, отчужденным от собственной жизни, подала утешение и надежду – на то, чтобы стать и быть собой. Она, может быть, выявила образ Божий в пресловутом “советском человеке”»[9].
Магистральным сюжетом «деревенской прозы» стала гибель великой православной цивилизации и сохранение навечно образов ее живых лиц, еще доживших до второй половины ХХ века. Поэтому естественно, что в конце концов она должна была обратиться и к самому ключевому событию этой катастрофы – к эпохе коллективизации. Впрочем, еще в ту самую эпоху, в 1929 году в романе «Соть» Л. Леонова, в диалоге монаха Геласия и «индустриализатора» Увадьева уже была указана суть происходящего:
«– Ноне и мертвые ходят, – жестко бросил Геласий, и худая рука его схватила воздух. – Там, где живому боязно, мертвому нипочем…
– Люблю злых, – минуту спустя сказал Увадьев. – Тугая, настоящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, обиженных, поднимающих руку люблю».
И далее:
«– …А известно ли тебе, что есть еще другие люди, которые справедливости ищут и кровь за нее отдают?
– Это которы хлеб у мужиков отбирали? – почти равнодушно переспросил Геласий, но сбился с весла, и брызги густо хлестнули в Увадьева. – Один из ваших и досель в болотце гниет… Очень такой человек был, солдат. Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины рождается, а вы ее ломом, тишину-те, корежите…»
По поводу строительства целлюлозной фабрики Геласий сказал:
«– Это все так, это для прикрытия сраму, а душа… душу куда определишь? Она что гвоздь: полежит без дела – заржавеет!
Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не одному только Геласию:
– Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло… я делал их, или ел, или держал в руках… я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают?.. где это продают?
– Как же я рыбине объясню, зачем мне ноги дадены! Она и без ног свою малявку сыщет…». Так ответил монах этому «любителю злых».
Коллективизация – это убийство русской православной цивилизации Геласия безродной и безбожной цивилизацией Увадьева. Цивилизация Бога, совести и лада – уничтожалась антимиром пустоты, низменности и злобы.
[1] Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. Коллективизация и раскулачивание в воспоминаниях очевидцев. М., 2006. С. 7.
[2] О чем писали «Известия ЦК РКП (б)» в 1919 г. (№ 5, суббота, 20 сентября) // Известия ЦК КПСС. 6 (293) июнь 1989. С. 222.
[3] Чаянов А.В. Записка о современном состоянии сельского хозяйства СССР по сравнению его с довоенным положением и положением сельского хозяйства капиталистических стран. 6 октября 1927 г. // Известия ЦК КПСС. 6 (293) июнь 1989. С. 214.
[4] Там же.
[5] Карпов И.С. По волнам житейского моря // Огонек. № 29, июль 1990. С. 14.
[6] Адамович Г.В. Литературные заметки. Книга 1 // Последние новости, 1928-1931.
[7] Там же.
[8] Астафьев В. Созидать милосердие и братство // Литературная газета. – 1990. – 26 сент. С. 4.
[9] Ольга Славникова. Деревенская проза ледникового периода // Новый Мир, 1999, № 2.
|