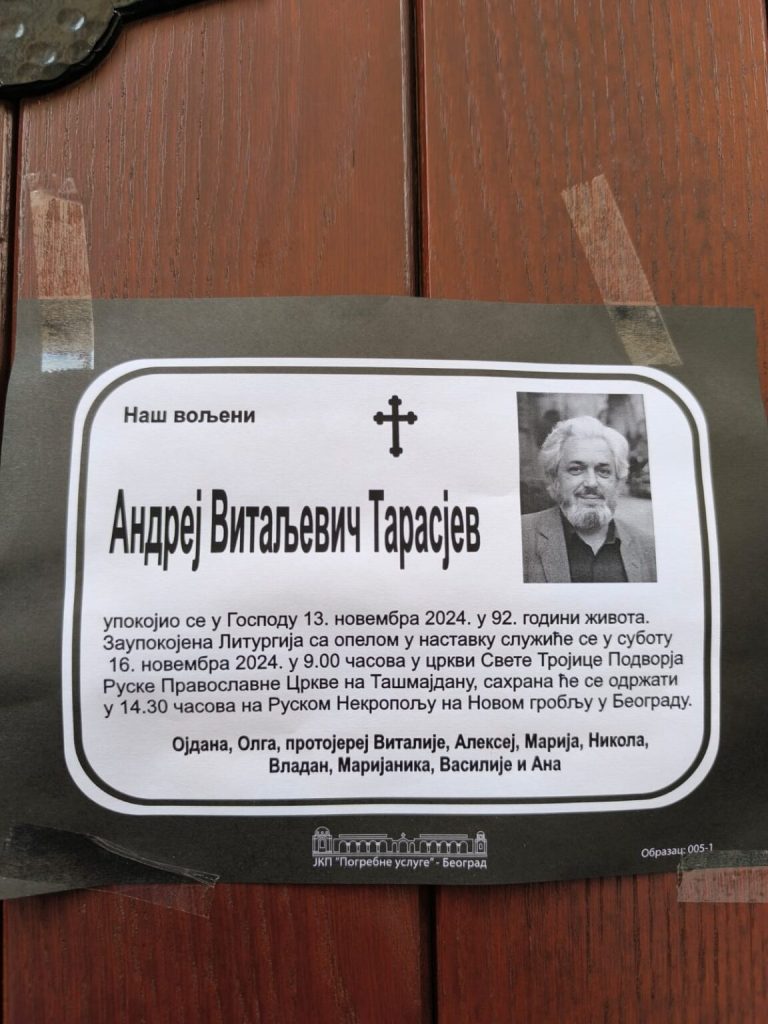 «О милых спутниках, которые наш свет Своим «О милых спутниках, которые наш свет Своим
сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были…»
(Василий Жуковский «Воспоминание»)
16 ноября 2024 года Белград проводил в последний путь необыкновенного человека, дуайена «русского Белграда» — Андрея Витальевича Тарасьева, перешагнувшего 90-летний рубеж, не утратившего живости чувств и мыслей, для многих и многих поколений ставшего Открывателем мира русского языка, культуры, истории, характера.
Его справедливо называли «последним белым русским», хотя сам он любил рассказывать эпизод, когда на вопрос советского патруля в освобождённом Белграде «Кто идёт?», он ответил: «Я русский». «Белый или красный?» — последовало уточнение, — «Просто русский!» Как трудно приживается эта, казалось бы, естественная формула — «просто русский», а ведь она могла и может спасти многих.
Упокоился Андрей Витальевич на русском участке Нового кладбища Белграда среди родных могил, под сенью гениального памятника Жертвам Первой мировой войны Р. Верховского, под сенью Иверской часовни, где он сам и его дед, и отец, и брат — Отец Василий Тарасьев, служили много лет и провожали в последний путь русских беженцев, переживших две мировые бойни и две гражданские, самые страшные — в России и в Югославии. Отпевал в русском храме святой Троицы на Ташмайдане Андрея Витальевича родной племянник отец Виталий Тарасьев — настоятель и благоукрашатель нашего маленького храма, только что отметившего столетний юбилей. Так совпало.
Андрей Тарасьев был в столице Сербии личностью абсолютно легендарной! К нему на филологический факультет текли не ручейки, но реки всех интересовавшихся русской культурой, языком. Для многих поколений советских специалистов из разных организаций именно Андрей Витальевич открывал русский Белград, водил по кладбищу, прокладывал тропинки от одного до другого русского архитектурного шедевра в центре города.
И для нашей семьи он ещё в 80-е годы, когда был молодым, отчаянно задорным, влюблявшим в себя каждого собеседника безоговорочно и навсегда, стал подлинным другом. Он был преподавателем — Учителем от Бога и, кроме того, что каждый из нескольких десятков поколений сербских русистов с гордостью говорит, что его учителем был сам Андрей Тарасьев, написал множество учебников и учебных пособий и статей (более 50), был автором Русско-сербохорватского словаря, основал Общество сохранения памяти о русских в Сербии.
Всю жизнь Андрей Тарасьев служил в храмах. Сначала был регентом хора в Иверской часовне, потом как иподиакон служил и в сербских храмах, прекрасно зная литургию и любя и профессионально разбираясь в церковном пении. Да и вообще в музыке, ведь профессор ещё и студенческий хор «Лучинушка» основал на кафедре славистики Белградского университета! И хор существует и выступает с успехом и сейчас.
Семья Тарасьевых для русского Белграда — как камень в основании приходской жизни и верности русской традиции. Не рассказать о ней — значит не рассказать и о духе и душе русской Сербии. Дадим слово самому Андрею Витальевичу: «Если бы с нами сейчас пил чай выдающийся режиссёр Никита Михалков, он бы сказал: „Говорите медленнее, я делаю сценарий“. Мамина история — это сценарий. Папа — это просто, это капелька в океане русского беженского горя. Мамина судьба иная. Её отец, Борис Нилович, рано был отдан в военное училище и прошёл трудный путь строевого русского офицера. Окончил военное училище, служил в 17-м Туркестанском стрелковом полку. Его любовь — Ашхабад. Он был не только военным, майором, но и художником. Совершая знаменитый Памирский поход в поисках сухопутного пути в Индию, делал зарисовки, опубликовал две статьи в журнале „Разведчик“ — „Через Бухару на Памир“ и „Уголок Согдианы“ — с собственными иллюстрациями. В 1897 году капитану Литвинову дали двухлетний отпуск, и он закончил Академию художеств. У нас хранятся его зарисовки бухарских ковров, многие из которых вошли в изданную 1907 году в Петербурге книгу генерала Боголюбского о коврах Бухары и Центральной Азии. Суровую строевую службу он проходил в Туркестане. Одна из дочерей родилась в городе Керки, моя мама — в Чарджуе (теперь Чарджоу). Когда началась Первая мировая война, дед мой отвёз жену и трёх дочерей во Владикавказ к своему тестю, генералу Александру Кадилову, а сам воевал на Черноморском побережье против турок, начав войну полковником, заместителем командира 17-го Туркестанского стрелкового полка. После того как в 1915 году командира полка убили, стал на его место. Брал Эрзурум, Трапезунд, дважды представлен к ордену святого Георгия и святой Анны, имел право на ношение Георгиевского оружия, семь раз ранен. Сохранил свой полк до революционных поражений 1917 года, а в 1919 году во Владикавказе поднял антибольшевистское восстание. Затем служил начальником всего Закаспийского фронта Белой армии, был тяжело ранен в позвоночник. В январе 1918 года представлен к чину генерал-майора, который получить помешала революция. Затем эвакуация в Галлиполи, Черногория, Сербия, с 1920 года находился в Белграде. С семьёй дедушка расстался в 1919 году. Когда отряды Белой армии спешно отступали и моя бабушка, Зинаида Александровна Литвинова, урождённая Кадилова, отказалась идти: у нее на руках было три девочки. Она сказала: „Боренька, верши свой долг, а я сохраню наших детей, и, даст Господь, свидимся“. В 1920-м ей сообщили, что муж смертельно ранен. Она стала вдовой…» — и после невероятных невзгод оказалась в Болгарии. В городе Шумен с тремя дочерьми.
«Жили в ужасных условиях. В 1924 году из Сербии — мы всегда говорили Сербия, а не Югославия — в Шумен приехал новый преподаватель математики. Директор представлял ему свой персонал: „Вот это преподаватель математики, а это законоучитель, вот это наш преподаватель русского языка, а это преподавательница немецкого, французского и музыки Зинаида Александровна Литвинова“. На что математик воскликнул: „А я приехал из Белграда, у меня в Белграде есть знакомый Литвинов“. Но Литвиновы были разные, даже советский министр иностранных дел был Литвинов, но не из Литвиновых-Масальских, другой. Этот новый преподаватель математики спросил у бабушки: „А где ваш муж?“ Бабушка ответила, что она вдова. Но когда выяснилось, что его знакомого в Белграде зовут Борис Нилович Литвинов (отчество очень редкое), что он генерал-майор и художник, бабушка упала в обморок. Так она перестала быть вдовой. Что делать дальше? Бабушке сказали: „Пишите: Русская Церковь, Белград, Сербия“, больше ничего».
«Дедушка перевёз семью в Белград. Они поселились в его квартире, у очень милых людей. В канцелярии русской церкви в Белграде висят две большие картины с мечетями Средней Азии. Это работы моего деда, Бориса Литвинова. На их обороте написано: „Этой картиной уплачена квартирная плата за год с 1928-го по 1929-й“. Ведь средств не было, и хотя хозяевам картина была не нужна, но, тем не менее, они приняли и такую плату. Дедушка похоронил свою жену в 1934 году. Бабушка умерла в возрасте 54 лет от Базедовой болезни. Так что дедушка единственный, кого я помню из старого поколения. Он прожил трудную-трудную жизнь, очень был потрясён смертью жены… Он всегда говорил (я помню его голос): „Написать картину — это искусство. Продать картину — гениальность“. Когда на выставке удавалось продать несколько картин, дедушка бросал эти деньги на пол и танцевал от радости какой-то индейский танец. Потом покупал всем и всё, а потом вновь жили впроголодь. Генералу царской армии уже после Второй мировой войны суждено было вернуться в Россию, но под конвоем, и умереть в мордовском лагере. Дедушка был стар, немощен, с больным сердцем, и русские солдаты и офицеры, что у нас жили, когда освободили Белград, его просто обожали. А всё ж таки и он попал под модную тогда статью „За сотрудничество с гитлеровским режимом“. И мы почти сорок лет не знали, где умер, когда… («Дед» — так и назвал Андрей свои воспоминания о генерале Борисе Ниловиче Литвинове-Массальском).
А вот как вспоминал о семье отца Андрей Витальевич: «Мой отец — представитель потомственного „кадильного“, или „лампадного“, дворянства, как тогда говорили. Его предки были священнослужителями… Он был восьмым ребенком в семье.
…Деревня Новая Карань под Мариуполем, Азовское море — это моя родина по отцовской линии. Я, к сожалению, там не был, но мечтаю побывать.
…Катастрофа Белой армии. Отступление через юг России. Всех, кто походил на воина, способного сражаться, мобилизовали. Мобилизовали и 18-летнего папу, и даже его брата Алёшеньку. Они получили коней, какое-то английское и французское обмундирование, деревянную казачью пику и шашку. Отступали с Врангелем. Отец получил несколько ранений, а его младший брат Алёша погиб (в трудный момент он отстал и был зарублен у папы на глазах). Отец прошёл через эвакуацию Белой армии, лагерь в Галлиполи. Спас его односельчанин Володя Рудин (он потом был церковным сторожем тут, в Белграде): когда врангелевская армия грузилась на корабли, началась паника, так он взял моего отца, всего перебинтованного кровавыми и грязными бинтами, и стал подниматься по трапу, крича: „Пропустите, несу адъютанта генерала…“, добавляя какую-то замысловатую фамилию. В Сербию папа попал через Черногорию, и вот каким образом. Наделённый незаурядной физической силой, он для того, чтобы выжить, работал на сахарном и лесопильном заводах, в каменоломнях на реке Дрине (теперь это искусственная граница между Сербией и сербами в Боснии). И там совершенно случайно встретил своего преподавателя из некогда славной Екатеринославской семинарии. Тот вскричал удивленно: „Витя, что ты тут делаешь?“ — «Как что делаю…“ — „А почему ты не учишься?“ Ну, что тут ответишь… Так вот, преподаватель этот дал папе деньги на проезд и записку, с которыми отец отправился в Белград к митрополиту Антонию (Храповицкому), тогда уже главе нашей Зарубежной Церкви. Митрополит Антоний устроил папе стипендию в городе Призрен. Отец закончил семинарию в 1926 году. Должен сказать, что, в отличие от других русских, папа великолепно выучил сербский язык. Сохранились его студенческие тетрадки — без единой ошибки! Сохранилось и Евангелие с дарственной надписью: „Брату Витальчику. Митрополит Антоний. 1929 год“. Митрополит Антоний умел оценить людей. Не всех он называл „Витальчик“ или „Павлик“. Папа не был выдающимся богословом, но протоиерей Виталий Тарасьев, мой отец, был настоящим истовым русским православным приходским священником».
Образ настоятеля Свято-Троицкой церкви в Белграде (построенной по проекту В. Сташевского в 1925 году), отца Виталия Тарасьева, которого митрополит Антоний (Храповицкий) ласково поименовал «братом Витальчиком», бережно хранят в своей памяти многие сербы, прибегавшие сюда ради глубокого духовного руководства и красоты уставных богослужений.
Мальчиком Андрей Тарасьев учился в русско-сербской гимназии, о чём с удовольствием рассказывал — и о шалостях, и о детских переживаниях. Он вспоминал: «Во-первых, не было разделения по национальности. Калмыки говорили, что они русские, хотя построили на окраине Белграда единственную в Европе буддистскую молельню. Сохранилась фотография, но, конечно, её саму снесли наши „освободители“ в 1945-1946 годах. И ещё: нас не учили ненавидеть Советский Союз, нас учили любить Россию».
В Россию, вернее, в Советский Союз Андрей Витальевич попал уже сложившимся человеком. «В 1966 году, в возрасте 33 лет. Но я всё знал. Может быть, даже и то, что в России перестали поминать. По Москве ходил, как по Белграду…», — вспоминал он.
«И это не только моё впечатление. Мой друг Никита Ильич Толстой, проживший первые 22 года своей жизни в Сербии, а в 1945 году с дядей и братьями вернувшийся в Россию, говорил: „Как хорошо, что в русском языке есть два понятия — Родина и Отчизна, Отечество. Мы, беженцы, Сербию должны считать своей Родиной, а Россия навсегда — наша Отчизна“».
Что для Андрея Витальевича было самым значимым? Конечно, Отечество, русский язык, которому служил, как служил в храме. Конечно, Сербия — дом родной. И трудно не согласиться с его старинным другом замечательным русским писателем Юрием Михайловичем Лощицем, который очень точно и сердечно написал о нём в одноименном очерке: «Удивительная душа у Андрея, не устаю ею любоваться. Вот образец весёлого православного человека, может быть, из времён грядущих к нам забежавшего…»
И далее: «Причин для скорби, угнетённости, грусти у него, поверьте, не меньше, чем у любого из нас… Русское и сербское начало сплавились в его душе в цельный слиток — попробуй отделить одно от другого, ничего не получится! Не знаю, кем он всё-таки себя больше чувствует — русским, сербом?
Или представителем того будущего Всеславянства, которое когда-нибудь непременно осуществится на земле, как бы ни противоречили этой надежде нынешние кровавые распри внутри славянского мира». Конечно, значимой и безгранично любимой была семья, близкие. У Андрея Витальевича трое прекрасных состоявшихся в жизни детей: старший Алексей — биолог, генетик, доктор естественных наук, младшие Мария — продолжившая путь своих родителей и ставшая филологом, и Николай — график-дизайнер. В них, в их семьях продолжается славный род Тарасьевых.
И всё-таки самым значимым, самым большим даром в жизни для Андрея Витальевича была Вера православная, вобравшая в себя и любовь к родине и Отечеству, и любовь простую человеческую. О своём пути к Вере, о своих чудесных встречах на этом пути Андрей Тарасьев написал потрясающую книгу (Слава Богу, что собрался с силами и завершил её!) «Четыре духовника».
Он пишет: «…мне посчастливилось слушать проповеди и просто высказывания в обычном разговоре таких великих духовников, как Святитель Авва Иустин (Попович), митрополит Анастасий, отец Иоанн Сокаль, отец Георгий Флоровский, отец Владимир Мошин, игумен Аверкий (Таушев), отец Борис Волобуев и др. Я был духовным сыном иеромонаха Антония (Бартошевича) в будущем архиепископа Женевского и Западно-Европейского, осмелюсь добавить — и близким другом. И все эти чудные люди, их духовные наставления не могли исчезнуть бесследно из моей души».
Особое место в книге отведено священникам русского храма святой Троицы: отцу Петру (Беловидову), отцу Владиславу (Неклюдову). Отрывком из воспоминаний Андрея Витальевича о его детской встрече с Воскресением Христовым в далёком 1940 году в русской церкви и хотелось бы закончить рассказ об этом светлом и талантливом человеке. Потому что это и было для него самым главным в жизни.
«…Но должен сознаться, что одна служба отца Владислава сыграла огромную роль в становлении моей, тогда ещё детской, веры. Речь идёт о моей первой заутрени в жизни (в 1940 году). В Великий пост мы с братом всегда говели вместе с нашими товарищами по русской начальной школе и гимназии в Белграде. У нас была своя школьная церковь на нижнем этаже Русского Дома, в котором размещались эти учебные заведения… Чаще всего ученики говели на четвёртой, крестопоклонной седмице. Ежедневно мы пропускали один из уроков и выстаивали великопостный третий час. В среду и пятницу наши законоучители служили Литургию преждеосвященных даров. На Страстной седмице мама нас обычно водила в Великий четверг на „12 евангелий“ в Иверскую часовню, где службы начинались раньше, а также и в Великую пятницу на вынос Плащаницы. Но, на утреню со „Страстями“ (её у нас служили в ночь с Великой пятницы на Великую субботу), а также и на Литургию в субботу и на Заутреню — нас не брали. Ходили мы только на торжественную пасхальную вечерню, которую всегда служил сам митрополит Анастасий (тогда уже Первоиерарх нашей Заграничной Церкви (Грибановский). Но вот подошла Пасха 1940 года. <…> Никогда мне не забыть этой первой пасхальной ночи, этой первой Заутрени в моей жизни! Встретила нас тысячная толпа… к нашей церкви просто не пробиться… Двери и окна нашей церкви распахнуты, и оттуда доносится конец Полунощницы „Не рыдай Мене Мати“… По окнам становится заметно, что в алтаре вспыхнул свет и затем доносится первое, тихое „Воскресение Твое Христе Спасе“ священнослужителей… вот засверкали огни в самой церкви и второе „Воскресение…“ подхватывает хор и все молящиеся… Продолжается заутреня под открытым небом! Кругом весь пустырь (теперь здесь разбит парк) запружен тысячной толпой… мерцают в темноте ночи сотни и сотни свечей. Первая ектения, и начинается торжественный радостный канон Пасхи. Отец Владислав кадит не только с помоста, а спускается вниз, исчезает в толпе и только по эху громкого „Воистину Воскресе!“ можно догадаться, где он сейчас… Вот он снова перед нами. „Сей наречённый и святый день“ поёт он вместе с хором, затем поворачивается к молящимся и, в который уж раз, бросает туда, в темноту, в море свечей, своё громкое „Христос Воскресе!“.
Он настолько близко от нас, что я ясно вижу его лицо, его глаза. Он весь озарён этой радостной вестью, что Христос воскрес! И я чувствую, что мой ответ — не старая привычная реакция, а сознательный ответ этой пламенной вере, которая горит в глазах этого истового пастыря, и я, впервые, совсем иначе, отвечаю ему словами радостного убеждения, что наш Спаситель действительно восстал из мёртвых. Я не могу удержаться от слёз, и больше всхлипываю, чем произношу это, по-новому пережитое, „Воистину Воскресе!“. Мама с испугом пытается узнать, что у меня болит, почему я плачу, и я шепчу ей: „Ничего не болит. Христос Воскресе!“ А на душе как-то по-новому радостно и весело. И слова Святаго Иоанна Златоуста из знаменитой проповеди „Аще кто благочестив“ звучат мне как-то по-другому. И не хочется поверить, что радость эта вообще может закончиться. Мы спускаемся в море огней и, защищая рукой нежный пламень наших свечей, пешком возвращаемся домой. И это чудо моей первой Пасхальной ночи, моей первой заутрени, и этого чувства полной, истинной уверенности, что Христос воистину воскрес, переданное вдохновенным отцом Владиславом, осталось в душе моей на всю жизнь, и было несокрушимой опорой во все страшные минуты нашей жизни!»
Елена Бондарева
|


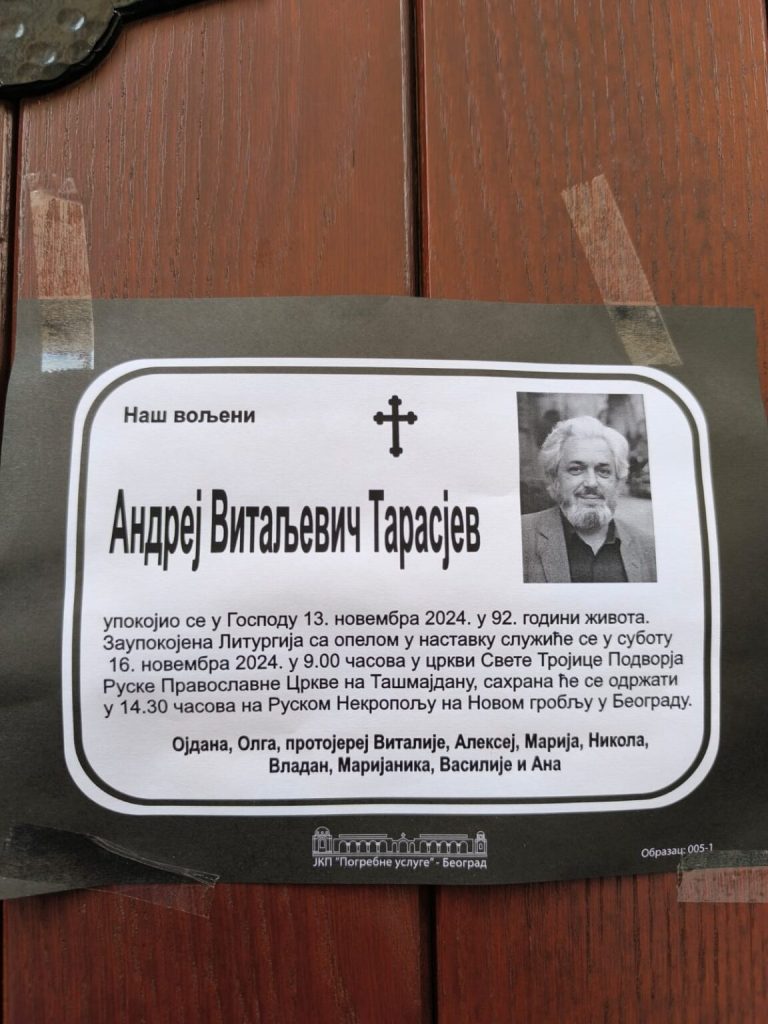 «О милых спутниках, которые наш свет Своим
«О милых спутниках, которые наш свет Своим