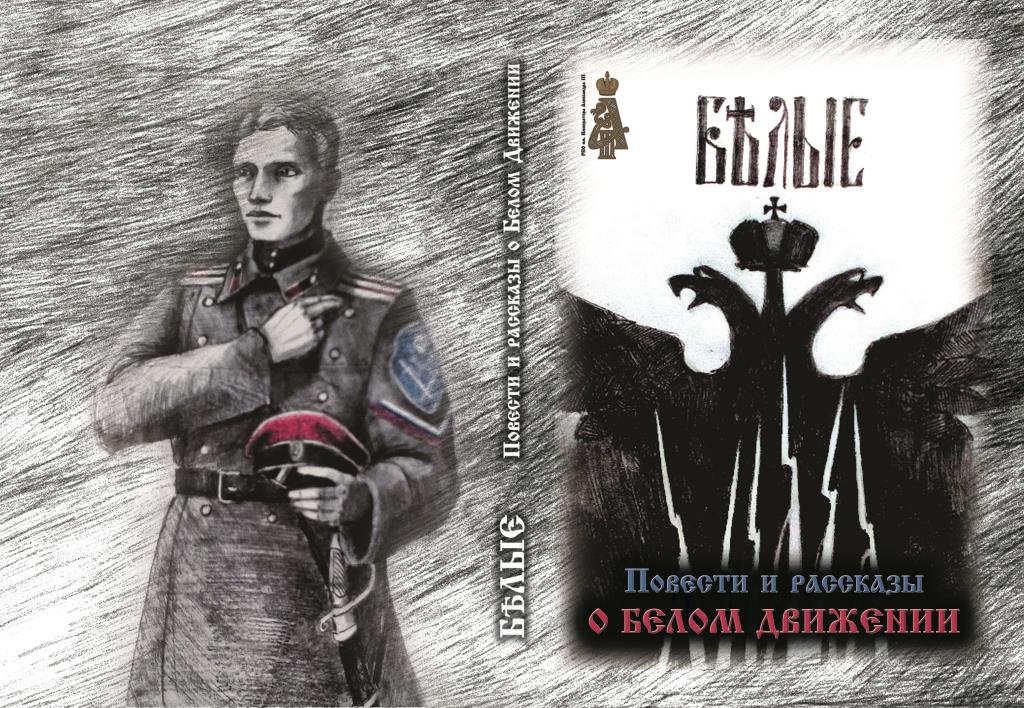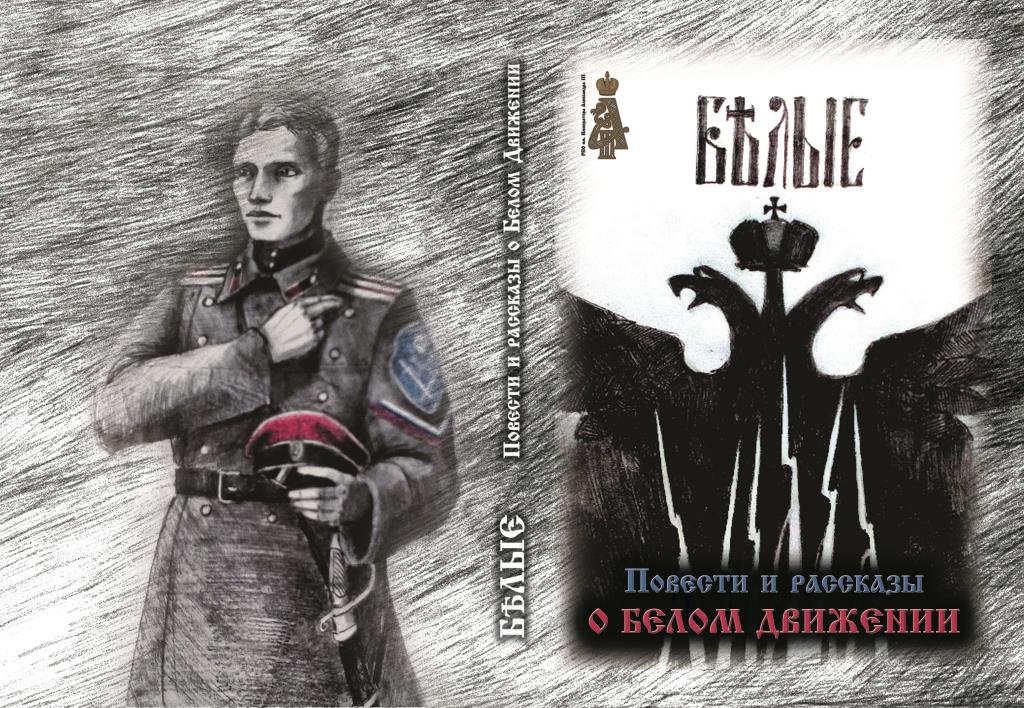
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15550/
Не у меня одного, а у всех боевых товарищей есть это чувство: сквозь всю нашу явь проходят перед нами, перед нашим духовным взором, всегда и всюду, точно бы залитые ясным светом, люди, события, места, картины того, что уже стало воспоминанием.
Так вижу я всегда перед собой и капитана Иванова; вижу его черноволосую голову, влажную от утреннего умывания, его ослепительную улыбку, румяное лицо и слышу его приятно картавый говор.
Какой он молодой, ладный... От него веет свежестью. Я вижу, как он, невысокий, с травинкой в зубах, похлопывая стеком по пыльному сапогу, идет рядом со мной в походной колонне, я слышу звук его беззаботного смеха. Образ капитана Иванова неотделим для меня от русской утренней прохлады, воздуха наших походов.
Синие растрепанные облака раннего утра перед боем, когда просыпаешься озябший в мокрой траве, — кто из нас не чувствовал тогда в каждой очерченной ветке, в росе, играющей на траве, в легких звуках утра, хотя бы в том, как отряхивается полковой песик, жизненного единства всего мира.
Я помню, мне кажется, каждый конский след, залитый водой, и запах зеленых хлебов после дождя, и как волокутся у дальнего леса легкие туманы, и как поют далеко за мной в строю. Поют лихо, а мне почему-то грустно, и я чувствую снова, что все едино на этом свете, но не умею сказать, в чем единство. Вероятно, в любви и страдании.
И капитан Иванов кажется мне теперь каким-то русским единством. Должен признаться, что отчество его я забыл. Его имя было Петр, но мы прозвали его Гришей. Вот кто был настоящим Ивановым 7-м с ударением на «о», человеком из той великой толпы безымянных фигурантов, на фоне которых разыгрывают свои роли оперные или опереточные герои.
Особенного в нем не было ровно ничего, если не считать его свежей молодости, сияющей улыбки, сухих и смуглых рук и того, что он картавил совершенно классически, по «Войне и миру», выговаривая вместо «р» — «г».,.
Но именно этот армейский капитан, простой и скромный, с его совершенной правдой во всем, что он делал и думал, и есть настоящий «герой нашего времени». Его, можно сказать, предчувствовали даже писатели, и, например, капитан Тушин Толстого, босой, с трубочкой-носогрейкой у шатра на Аустерлицком поле, — несомненный предтеча капитана Иванова, так же как Максим Максимович, шагающий за скрипучей кавказской арбой, или поручик Гринев из «Капитанской дочки».
Армейский капитан Иванов — герой нашего времени. В то время, как другие школы выпускали людей рыхлых, без какой-то внутренней оси, наша военная школа всегда давала людей точных, подобранных, знающих, что можно и чего нельзя, а главное, с верным, никогда не мутившимся чувством России. Это чувство было сознанием постоянной ей службы. Для русских военных служилых людей Россия была не только нагромождением земель и народов, одной шестой суши и прочее, но была для них отечеством духа. Россия была такой необычайной и прекрасной совокупностью духа, духовным строем, таким явлением русского гения в его величии, чести и правде, что для русских военных людей она была Россией-Святыней.
Капитан Иванов, как и все его боевые товарищи, именно потому и пошел в огонь гражданской войны, что своими ли или чужими, это все равно, но кощунственно была поругана Россия-Святыня.
Как и все, Иванов был бедняком-офицером из тех русских пехотинцев, никому неведомых провинциальных штабс-капитанов, которые не только не имели поместий и фабрик, но часто не знали, как скрыть следы времени и непогоды на поношенной офицерской шинелишке да на что купить новые сапоги.
Капитан Иванов был до крайности далек и от петербургского общества и от большого света, не говоря уже, разумеется, о придворных кругах, тоже, впрочем, не имевших ровно никакого отношения ни к провинциальной армейщине Иванову, ни ко всей Белой армии. В мирные времена в медвежьем углу, черт знает в каких тартарарах, куда месяц скачи — не доскачешь, в маленьком армейском гарнизоне провел бы свою простую армейскую жизнь неведомый капитан Иванов, так же как и тысячи его однофамильцев с ударением на «о».
Позволял бы себе иногда купить стек или одеколон где-нибудь в Слуцке или Ровно, в Варшаве сапоги с мягким лакированным верхом; зачитывался бы запоем до первых петухов всем, что попадается под руку в пыльной городской библиотеке, и также до петухов, а то и позже просиживал бы ночи за пулькой по маленькой; иногда был бы весел и шумен сверх положенного в офицерском собрании, а вечера проводил бы в одиноких прогулках над городской речкой, не обозначенной ни на каких географических картах.
Над вечерней речной сыростью с молодой жалостью к самому себе думал бы, что одинок, что еще нет любимой, и с благодарностью вспоминал бы последний поцелуй, приключившийся на стоянке полка верст тысячи за полторы от этой неведомой речки.
Непритязательную жизнь капитана Иванова в мирное время потрясали бы, да и то отчасти, только лишь разносы начальства, а главное, сердечные и карточные дела. Он так бы и состарился вместе со старыми солдатами все той же 4-й роты Бог весть какого, последнего по счету, 208-го Лорий-ского, пехотного полка нашей армии и мирно отдал бы Богу душу, твердо веруя в Святыню-Россию.
Иванов был из только что поднявшихся семей, которые своим горбом и беспорочной службой пробивались в люди. Все эти капитаны были по большинству детьми мелкого чиновничества и офицерства, военных и ветеринарных врачей, телеграфистов, старых солдат, земских фельдшеров, так же как и Кутепов был сыном чиновника провинциальной казенной палаты.
Для других народов отечество — тщеславная гордыня, да еще с позерством, или любование процветающей торговой факторией, а для русских капитанов Ивановых отечество было служением по всей правде Родине-России даже и до последнего издыхания. Капитан Иванов бесхитростно знал, что Россия — самая справедливая, самая добрая и прекрасная страна на свете, и верил так же бесхитростно, что если в ней что-нибудь и не устроено, не налажено, то все в ней в свое время устроится и наладится по справедливости.
Когда-нибудь в ней поймут, что между прежней «старорежимной» Россией, павшей в смуте, и большевистской тьмой, сместившей в России все божеское и человеческое, прошла видением необычайного света, в огне и в крови, Белая Россия капитанов Ивановых, Россия правды и справедливости.
Первое русское ополчение капитанов Ивановых было разбито. Так и в Смутное время было разбито первое ополчение Прокопия Ляпунова, хотя и стояло уже под самой Москвой. Но никто и ничто, как только то же русское ополчение, второе ополчение Минина и князя Пожарского, освободило Москву от смуты.
И на всем белом свете для армейского капитана Иванова его родная 4-я рота была живой частью, дышащим образом России-Святыни. Кто из молодых офицеров не любил своей роты или взвода, этих деревенских солдатских глаз, не знавших до революции ни добра ни зла, этих сильных и добрых рук молодых мужиков, солдатского запаха ржаного хлеба и влажных шинелей, чистых рубах и веников после бани?
Капитан же Иванов так любил своих земляков и так сжился с ними, что сам неприметно проникся простыми вкусами и обиходом старых служивых, хотя ему едва ли было за тридцать.
Он любил, как все наши сверхсрочные солдаты, попариться в бане, и чтобы потрясли над ним горячий веник. Я помню, как он радовался этому пеклу и смеялся, свесив с полки мокрую голову, и как на его груди поблескивал на мокром шнуре простой серебряный крест, истертый и тоненький, совершенно такой же, как и у старых солдат. Ценил он квасок, квашеную капусту и водки чарку, да еще с кряканьем.
В этом капитан Иванов повторял всех армейских Ивановых, ту нашу простецкую армейщину, в которой жила простая и вечно юная душа самого Александра Васильевича Суворова. Впрочем, в отличие от привычек славного фельдмаршала, Иванов по одной, вероятно, молодости лет был, как бы это сказать поосторожнее, порядочным бабником.
При случае любил он приволокнуться, и в своих сердечных увлечениях был прост до крайности. Ему нравились бабы; я хочу сказать, что ему нравились настоящие деревенские бабы, да чтоб подебелей, рослые вдовы со смелой и сильной выступкой и с такой звонкой скороговоркой, под обстрелом которой не устоять не то что капитану, а и любому генералу со всем его штабом.
Бабы нравились капитану Иванову совершенно так же, как его солдатам, и вся 4-я рота уважала романы своего командира и оберегала их мирное течение от лишнего вмешательства. Займет капитан Иванов деревню. Его солдаты разместятся в отличных хатах, а сам капитан заберется в такую глухую избенку на трех ногах, что даже неловко. Зато можно быть уверенным, что в колченогих хоромах обитает какая-нибудь рослая вдова.
Чтобы найти в деревне капитана Иванова, надо разыскивать не дом, где он остановился, а подозвать первого встречного солдата и спросить:
— Где тут живет молодая вдова?
Сколько раз шел я к капитану Иванову, когда он был занят сердечными делами, и надо было видеть, как солдаты 4-й роты, чудаки, подмигивали друг другу и подавали другие испытанные сигналы, а дневальный сломя голову уже пер во весь дух по задворкам упредить капитана, чтобы, чего доброго, полковник Туркул не застал его в боевом расположении на рандеву.
Должен сказать, что я никогда не заставал капитана Иванова врасплох. Предупрежденный, он выходил ко мне на крыльцо с ослепительной улыбкой, со слегка растрепанными черными волосами, разве только ворот белой косоворотки иногда был отстегнут на шее, и картавил весело и лукаво:
— Здгавия желаю, господин полковник.
А улыбка у него была, по правде, прелестной.
Особенно я любил наблюдать за ним, когда после удачного боя на поле, только что вытоптанном атакой, разбирали и опрашивали пленных.
Среди земляков в поношенных серых шинелях, с темными или обломанными красными звездами на помятых фуражках, среди лиц русского простонародья, похожих одно на другое, часто скуластых, курносых и как бы сонных, мы сразу узнавали коммунистов, и всегда без ошибки. Мы узнавали их по глазам, по взгляду их белесых глаз, по какой-то непередаваемой складке у рта.
Это было вроде того, как по одному черному пятнышку угадала панночка в «Майской ночи» ведьму-мачеху среди русалок. Лицо у коммунистов было как у всех, солдатское, скуластое, но проступало на нем это черное пятно, нечто скрытое и вместе отвратительное, смесь подобострастия и подлости, наглости и жадной вседозволенности, скотство. Потому мы и узнавали партийцев без ошибки, что таких погасших и скотских лиц не было раньше у русских солдат. На коммунистов к тому же указывали и сами пленные.
Пленные красноармейцы стояли и сидели на изрытом поле, и дрожал над ними прозрачный пар дыхания. Капитан Иванов со стеком, озабоченно поглаживая самый кончик острой черной бородки, ходил между ними. Он не спеша оглядывал их со всех сторон. Он обхаживал пленного так же внимательно и осторожно, как любитель на конской ярмарке обхаживает приглянувшегося ему жеребца.
Пленный, кое-кто и босой, в измятой шинели, поднимался с травы, со страхом, исподлобья озираясь на белого офицера.
— Какой губегнии?
Рослый парень, серый с лица, зябнущий от страха и ожидания своей участи, глухо отвечал. Капитан расспрашивал его вполголоса. Вероятно, это были самые простые вопросы: о деревне, земле, бабе, стариках. И вот менялось лицо красноармейца, светлело, на нем скользил тот же добрый свет, что на лице капитана, и пленный уже отвечал офицеру, улыбаясь во все свои белые ровные зубы.
Капитан слегка касался стеком его плеча, точно посвящая пленного в достоинство честного солдата, и говорил:
— В четвертую, бгатец, готу...
И ни разу не ошибся он в своем отборе: из 4-й роты не было ни одного перебежчика. Он чуял и понимал русского человека, и солдат чуял и понимал его.
Не только в нашем Дроздовском полку, но, может быть, во всей Добровольческой армии 4-я рота капитана Иванова была настоящей солдатской. Он пополнял ее исключительно из пленных красноармейцев. В то время как у нас целые полки приходилось набирать из одних офицеров и в любой другой роте их было не менее полусотни, у капитана Иванова все до одного взводы были солдатские, и ротный командный состав тоже солдатский, из тех же пленных. Все ребята — молодцы, здоровенщина.
Я иногда посылал к капитану Иванову пополнение из кадет, гимназистов и реалистов — наших удалых баклажек — и студентов, но капитан Иванов каждый раз отказывался вежливо, но наотрез:
— Это какой же-с солдат? — говорил он не без раздражения. — Это-с не солдат, а, извините, русская интеллигенция...
И в это слово «интеллигенция» вкладывал он столько уничижительного презрения, что за нее просто становилось совестно.
— Нет уж, благодарю: я уж пополнюсь моим земляком...
А земляки в его роте вскоре же становились мордастыми сытюгами. Хорошим хозяином был капитан Иванов; он умудрялся кормить свою роту настоящим армейским пайком мирного времени. Ни у кого не было таких наваристых щей, играющих всеми цветами радуги, ни у кого солдат не был так ладно, опрятно и тепло одет, так крепко и сухо обут.
Капитан Иванов умел раздобывать своим землякам зимой Даже варежки и какие-то ватные набрюшники, вроде потников-подседельников; ни у кого не было столько табаку и сахару, как в 4-й роте, и ни в одной роте не пахло так вкусно и так семейственно, как в большой солдатской семейке капитана Иванова. Народ у него все был плотный, ражий, во сне храпели, как битюги, а с чужими были заносчивы и горды. Орлы.
Дисциплина в 4-й была железная, блистательная. Солдаты чувствовали сильную руку своего командира и его прямую душу, знали, что нет в нем никакой несправедливости и неправды. Солдаты понимали его так же, как он их, и жили с ним душа в душу.
Капитан Иванов был русским простецом, и, несмотря на его деревенские прегрешения с рослыми вдовами, светился в его простоте свет русского праведника. Может быть, за праведную простоту мы его и прозвали Гришей. У него, впрочем, было и другое, довольно странное прозвище — Иисус Навин.
И вот почему. При всей своей скромности капитан Иванов любил покрасоваться. Однако только в бою. В бою он всегда был верхом, впереди своей цепи. Пеший он никогда не ходил в атаку, и ему неукоснительно подавали нового Россинанта. Не сосчитано никем, сколько под ним было убито коней.
По-солдатски, если хотите по-лубочному, чувствовал он красоту боя: в огне храбрый командир должен красоваться впереди своих солдатушек верхом, вот и все. Ведь солдатская любовь к командиру по-детски жестока: уж таким храбрецом должен быть орел-командир, что и пуля его не берет, и от сабли он заговорен. Вероятно, потому и гарцевал капитан Иванов в огне перед цепями. Я думаю, позволь ему, он завел бы еще у себя по старине и барабанщиков, открывающих барабанным боем атаку в штыки, и тоже из-за одной красоты.
Вижу, как он скачет в цепях на коне, израненном пулями, залитом кровью. Верхом он был истинным Иисусом Навином. Уж очень дурны были все его кобылы и кони, старые, костлявые, вроде тех еврейских кляч, на которых тащатся на мужицкую ярмарку в расшатанных таратайках, обвязанных веревками, а то и верхом, местечковые Оськи и Шлемки.
Наши веселые замечания о его боевых конях капитан Иванов отражал с достоинством.
— Я быстгых коней не люблю, я не кавалегия-с, — говорил он и тут же добавлял с прелестной улыбкой: — Я пехотный офицег.
Особенно он запомнился мне в бою под Богодуховом. Это было в июле 1919 года. Я командовал тогда офицерским батальоном. Мы наступали на сахарный завод, кажется, Кенига; я был впереди батальона верхом.
Наступали под проливным дождем. Все смутно смешалось впереди в шумном ливне, как в мутном аквариуме. Дорогу мгновенно размыло, погнало глинистые потоки. У дороги блестели мокрые тополя. Земля дымилась, дышала влажным теплом; в ливне глуше стали команды, лязг движения, стоны раненых; точно отсыревшие — удары выстрелов. С сахарного завода тупо и сыро стучала частая стрельба красных.
Вторая рота, с которой я был, промокшая до нитки, в отяжелевших сапогах, облепленных грязью, довольно неуклюже начала развертываться на дороге в цепь и по бурлящим водороинам пошла в атаку на завод. «Ура» относило дождем.
Мы заняли завод. Я помню его маячащие строения, его отблескивающие крыши. Разгоряченные атакой, громко перекликаясь, не узнавая друг друга в тумане ливня, люди стали строиться на заводском дворе. В затылок 2-й роте, где-то в дояоде, наступала с капитаном Ивановым 4-я, но ее еще не было видно.
Внезапно в тылу, за тополями у дороги, застучал частый огонь, все горячее. В дожде, близко, был противник. Я спрыгнул с коня в грязь и подозвал начальника пулеметной команды капитана Трофимова. Он подбежал ко мне, утирая рукавом лицо; его потемневший от воды френч блестел, как клеенка.
— Скачите в четвертую роту, передайте капитану Иванову мое приказание наступать на противника правее тополей.
Капитан Трофимов молча взял под козырек и побежал к коню.
Я был единственным, кто представлял собой штаб моего батальона: все были разосланы с приказаниями. Ординарец Макаренко — в дожде блестело его смуглое лицо — держал за мной на поводу мою Гальку. Молодая гнедая кобыла, с белыми чулочками на ногах, с белой прозвездиной на лбу, от дождя стала глянцевитой и скользкой. Она танцевала на месте — она всегда танцевала — и тревожно втягивала ноздрями влажный воздух. Стрельба гремела порывами. Но где же 4-я.
Ко мне подошел раненый пулеметчик 2-й роты поручик Гамалея с карабином через плечо. Рукав его кожаной куртки был разрезан, бинты просачивались кровью.
— Наседают, и довольно круто, господин полковник... Гамалея улыбнулся, тут же поморщившись от боли.
— Куда девалась четвертая?
Огонь так силен, словно нас обстреливают и с дороги, где идти капитану Иванову. Я всматривался в бегущий дождь на шоссе. Наконец показалось, что вижу тянущуюся там, точно смутные привидения, длинную цепь и перед цепью тень всадника.
Вот он, Иисус Навин. Он не торопится, он прет прямиком по шоссе, несмотря на мое приказание наступать правее тополей. Меня разозлил его неуклюжий марш. Я набрал сколько мог воздуха и выкрикнул обидную команду:
— Шире шаг, четвертая, шире шаг... — и побежал им навстречу, за мной — Гамалея.
Град застучал нам в спину. Я прыгнул через лужу и услышал над собой конское фырканье. Теперь и капитан Иванов услышит меня — с полным удовольствием я стал ото всей души крыть запоздавшую 4-ю и увидел над собой в дожде незнакомое серое лицо в нахлобученной фуражке с темной пятиконечной звездой.
Брякнул выстрел, пуля пробила мне тулью — я содрогнулся от пулевого ветра, выхватил браунинг, но в стволе нет патрона, вестовой вчера чистил, вытащил патрон. Патрон, дослать патрон...
Всадник прицелился. Но у моей щеки прогремел выстрел. Лошадь со всадником откинуло в сторону, она покарачилась на задние ноги. Около меня кто-то часто и сильно дышал. Я оглянулся: за мной стоит Гамалея, оскаленный, бледный. Это он успел одной рукой поднять карабин и выстрелить в коня. Я дослал патрон и сбил всадника выстрелом, он повис с седла вниз головой. Раненая лошадь тяжело прыгнула передними ногами с дороги в канаву. Увязла. Фуражка краскома, дном кверху, плывет в темной луже, по ней стучит град.
Цепь красных надвигалась на нас. Глухие голоса в тумане, кашель, звон манерок. Сбитый мной краском был перед цепью шагах в трехстах. В цепи нас заметили, открыли беспорядочную стрельбу.
По нас на ходу бьют пачками, а мы, онемевшие, оба стоим в луже перед всей красной цепью. Бежать под залпами вдоль наступающих, обогнать их, выскочить к нашим — верная смерть. Я понял, что получился «слоеный пирог», какой не раз получался на фронте: красная цепь втянулась между нашими 2-й и 4-й ротами. Я повернулся и со всех ног кинулся бежать обратно ко 2-й роте. Гамалея за мной. Никогда и никакой Нурми не давал такого хода, как мы с поручиком под этим ливнем, градом, пальбой.
Я помню, как Гамалея упал, помню, как вынырнуло из тумана блестящее лицо Макаренки:
— Господин полковник, в седло...
Он подводит Гальку, я прыгаю в седло, несусь без стремян от красной цепи. Вот наша 2-я рота; вдоль роты я обскакал красную цепь и вынесся за нею в тыл на левом фланге. Я знал, что за красными наши.
Вскоре на дороге передо мной вырос всадник, за ним быстро идущая цепь, принимавшая на ходу правее тополей. На меня наскакал капитан Иванов, мокрый, за ним мокрый капитан Трофимов.
— Какого черта вы прете так медленно?
Я с таким удовольствием заорал на капитана Иванова, что тот от неожиданности заморгал.
— Это не я пгу медленно, — ответил он, пытаясь оттянуть поводья своего очередного коня.
Несмотря на весьма почтенный возраст, его конь положил голову на шею моей Гальке и уже нашептывал ей какие-то любезности, едва шевеля мягкими губами.
— Это вторая гота медленно пгет впегеди меня...
— Черта лысого, там вторая рота! Там большевики.
— Большевики?
Капитан Иванов все мгновенно понял. Он приподнялся на стременах, оглянулся как-то по-соколиному, прелестная улыбка пронеслась по его лицу, и он скомандовал с радостной удалью:
— Четвеггая гота, с Богом, в атаку!
Мы поскакали с цепями вперед. Порывы сильного «ура» подгоняли коней. 4-я рота одним ударом смяла красных. Сгрудившиеся в дожде стадами красноармейцы поднимали руки, вбивали винтовки прикладами вверх в мокрую землю. Как говорится, забрано все.
На шоссе, подкормившись, сидел в луже поручик Гамалея. Мы окружили его, он нам кивал головой, залитой кровью. Удивительно сказать, но без улыбки мы не могли смотреть на стриженую голову Гамалеи, с торчащими во все стороны пулями. В гастрономических магазинах выставляют иногда такие фаянсовые головы, засеянные травой.
Цепь красных до нашей атаки дошла до упавшего Гамалеи, и кто-то стал в упор расстреливать его из самого дешевого револьвера Лефоше, из этой жестянки; пули, торчавшие теперь в его голове, едва только пробили ему кожу. По Лефоше, из опросов пленных, мы отыскали его владельца, кривоногого краскома, мальчишку-коммуниста. Краскома расстреляли.
Гамалея вскоре оправился от своих необычайных ран, о которых сам говорил с улыбкой. Но смерть ему была суждена на поле чести: поручик пулеметной команды 1-го батальона Дроздовского полка Гамалея был убит в Крыму.
А после боя под Богодуховом унялся ливень, засветился прозрачный воздух. Сильно дышали мокрые травы, мята, тмин, и над дальними холмами и тополями, над которыми еще курился дождевой дым, стала в небе нежно-светлая радуга.
Капитан Иванов, постукивая стеком по мокрому сапогу, уже ходил между пленными. Его лицо и все лица кругом светились от радуги. От летнего боя под Богодуховом у меня навсегда останется вот именно это воспоминание.
Теперь я понимаю, что простота капитана Иванова была той суворовской простотой, которая преображала нашу армию в совершенно особенное и чудесное духовное существо, отмеченное чертами необычайной семейственности, в ту нашу великую армейскую семью, где немало было таких капитанов Ивановых, для которых солдаты — живая, дышащая Россия, и где было много таких солдат, для которых их капитаны Ивановы были самыми справедливыми и честными, самыми храбрыми и красивыми людьми на белом свете.
Светился суворовский свет в праведной русской простоте капитана Иванова. Суворовским светом залиты и его последние дни. Это было в самом конце октября 1919 года. Неслись мокрые метели. Мы отходили. Капитан Иванов и теперь, часто по гололедице, верхом водил в огонь свою 4-ю роту.
29 октября под Дмитриевом он атаковал красную батарею. 4-я рота попала под картечь. Очередная кобыла была убита под Иисусом Навином в атаке. Тогда он пеший повел цепь на картечь. 4-я рота взяла восемь пушек.
В Дмитриеве 4-я рота стала в резерв. Ночью красные начали наступать от Севска. Полковник Петерс приказал 4-й роте подтянуться к батальону. Капитан Иванов повел роту к вокзалу. В холодных потемках большевики обстреливали нас шрапнелью. Вскоре и я с моим штабом прискакал к вокзалу.
На площади в темноте меня удивил тихий тягостный вой. Сгрудившаяся толпа солдат как будто бы выла с зажатыми ртами. Это была 4-я рота. Солдаты смотрели на меня из темноты, не узнавая, не отдавая чести, опустевшими, дикими глазами. Этот невнятный звук, удививший меня, был подавленным плачем. Так плачут наши простолюдины, не разжимая рта. 4-я рота плакала.
Капитан Иванов верхом стал уже выводить ее к вокзалу, когда над ним разорвалась шрапнель. Случайный снаряд десятками пуль мгновенно смел его и его последнего боевого коня. В ту ночь нашей единственной потерей был командир 4-й роты капитан Петр Иванов.
Ночью я приказал перейти в наступление. Безмолвной, страшной была ночная атака 4-й на красных в деревне под самым Дмитриевом. Они перекололи всех, они не привели ни одного пленного.
В городе нашелся оцинкованный гроб; я приказал похоронить капитана Иванова с воинскими почестями. Все было готово к похоронам, когда мне доложили, что идет депутация от 4-й роты. Это были старые солдаты Иванова из пленных, с ними подпрапорщик Сорока.
Они шли по вокзальной площади тяжело и крепко, сивые от инея, с суровыми скуластыми лицами, угрюмо смотрели себе под ноги и с остервенением, как мне показалось, отмахивали руками.
— В чем, братцы, дело? — спросил я, когда они отгремели по плитам вокзала.
Мгновение они стояли молча, потом выдохнули, все разом заговорили смутно и гневно, их лица потемнели. Я не понимал, о чем они гудят, остановил их:
— Говори ты, Сорока.
— Так что нельзя. Так что робята не хочут капитана тут оставлять. Этта чтобы над ем краснож...е поругались. Робята не хочут никак. Этта сами уходим, а его оставлять, как же такое...
Сорока умолк. Я видел, как движется у него на скулах кожа, как изо всех сил он стискивает зубы, чтобы унять слезы, а они все же бегут по жестким, изъеденным оспинами щекам солдата.
— Хорошо, Сорока, я понял. Но, знаешь сам, мы отходим. Надо же капитана похоронить.
— Так точно. А когда отходим, и он с нами пойдет. Где остановимся, так и схороним его с почестью. Разрешите, господин полковник, взять нам командира с собой.
Я разрешил.
Дмитриев был нами оставлен 31 октября после упорного боя с четырнадцатью красными полками. При переходе через железную дорогу нам очень помог наш бронепоезд «Дроздовец» капитана Рипке.
Была жестокая и темная зима, Мне трудно это передать, но от того времени у меня осталось такое чувство, точно вечная тьма и вечный холод — сама бездыханность зла — поднялись против России и нас. Кусками погружалась во тьму Россия, и отступали мы.
На отходе одну картину, героическую, страшную, никогда не забудут дроздовцы. В метели, когда гремит пустынный ветер и несет стадами снеговую мглу, в тяжелые оттепели, от которых все чернеет и влажно дымится, днем и ночью, всегда четверо часовых, солдаты 4-й роты, часто в обледенелых шинелях, шли по снегу и грязи у мужицких розвален, на которых высился цинковый гроб капитана Иванова, полузаметенный снегом, обложенный кусками льда.
Мы отходили. Мы шли недели, месяцы, и ночью и днем двигался с нашей колонной запаянный гроб, окруженный четырьмя часовыми с примкнутыми штыками.
Я говорил подпрапорщику Сороке:
— Мы все отходим. Чего же везти гроб с собой? Следует похоронить его, хотя бы в поле.
Подпрапорщик каждый раз отвечал угрюмо:
— Разрешите доложить, господин полковник, как остановимся крепко, так и схороним...
Ночью, когда я видел у гроба четырех часовых, безмолвных, побелевших от снега, я понимал, так же как понимаю и теперь, что, если быть России, только такой России и быть: капитана Иванова и его солдат.
Почти два месяца, до самого Азова, несла 4-я рота караулы у гроба своего командира. Капитан Петр Иванов был убит в ночь на 31 октября, а похоронили мы его только в конце декабря 1919 года под прощальный салют 4-й роты.
Многие из его солдат остались в России, и я думаю, что перед ними, как и перед нами, всегда и всюду, пронизывая темную явь, проходят светлые видения нашей общей честной службы России. Проходит перед ними призрачный их командир, капитан Иванов, которому еще воплотиться снова на земле нашего общего отечества. |