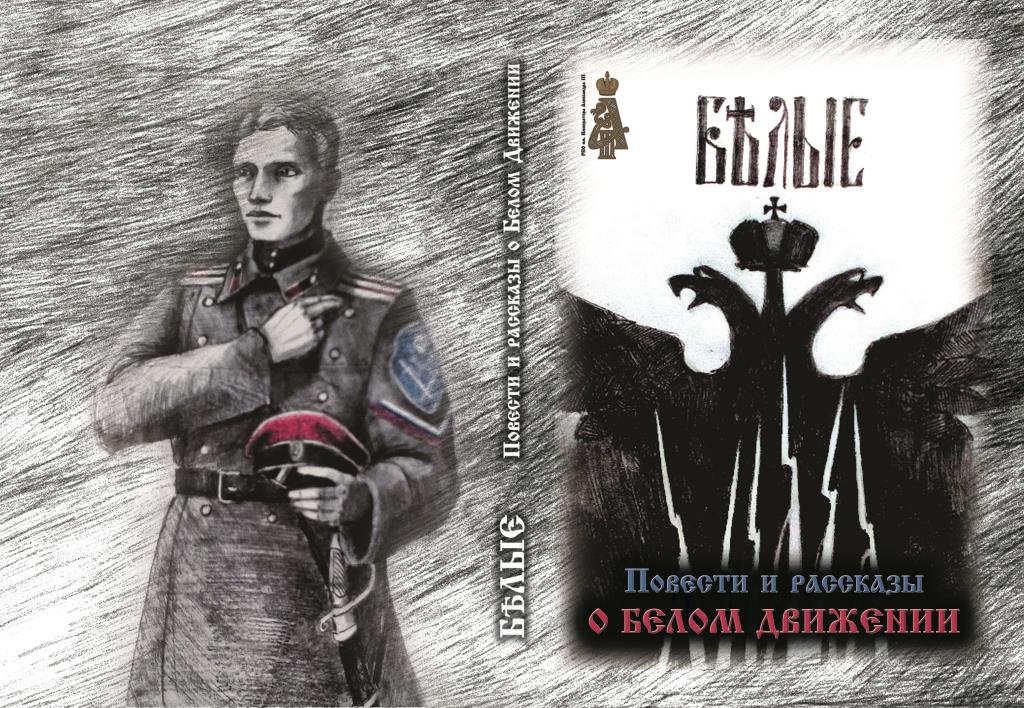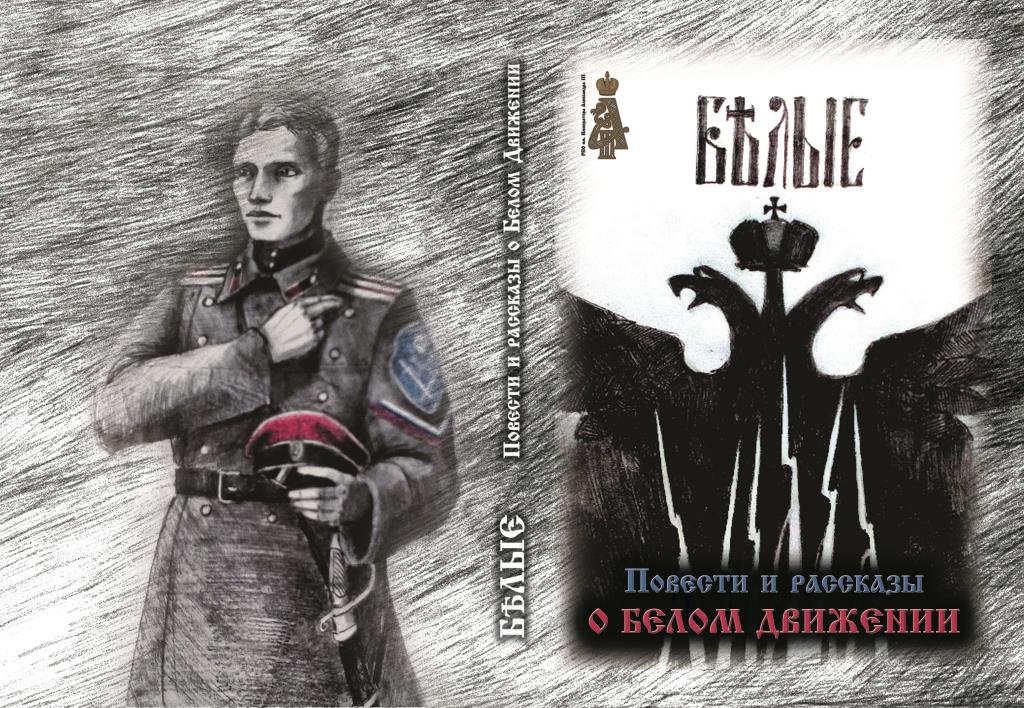
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15550/
Отход.
Курск, Севск, Дмитриев, Льгов — оставлено все. Взрываем за собой мосты, водокачки, бронепоезда. За нами гул взрывов. Связь со штабом дивизии прервана. На железнодорожных путях часто встречаются вереницы теплушек. Их заносит снегом. Дроздовец Рышков рассказывает в дневнике о таком замерзшем эшелоне на станции Псел:
«Жарко, когда раскалена докрасна железная печка; холодно, едва она погасла. Голый по пояс офицер свесился с нар.
— Стреляйте в меня! — кричит он. — Стреляйте мне в голову!
Поручик или пьян, или сошел с ума.
— Не хочу жить. Стреляйте! Они всех моих перебили, отца... Всю жизнь опустошили... Стреляйте!
Поручика успокаивают, да и сам он очнулся, просит извинения:
— Нервы износились. До крайности.
Воет пурга. Теплушку трясет. Часовые ныряют в снегу; заносит и часовых и эшелон».
Так в дневнике Рышкова — это отчаяние.
Отход — это отчаяние.
Хорошо одеты, тепло обуты советские Лебединский или Сумской полки, их первая или вторая латышские бригады. У нас подбитые ветром английские шинеленки, изношенные сапоги, обледеневшее тряпье вокруг голов.
Отход — отчаяние.
Болота, болотные речки. Грязь оттепелей, проклятые дикие метели. Глубокий снег, сугробы по грудь. Ветер то в спину, то в лицо. Едва войдешь в деревню на ночлег, уже подъем или ночной бой, без сна: красные в деревне.
Отходим по мерзлой пахоте без дорог, в лютую стужу, в потемках. Падают кони. Там, где прошли перед нами войска, холмами чернеет конская падаль, заносимая снегом. Все стало угрюмым — люди, небо, земля. Точно из железа. Выедено кругом все, вымерло. Мы идем голодные, теряем за собой замерзших мертвецов.
Шинели смерзаются от воды, когда надо вброд переходить речки, и один из наших баклажек, мальчик-стрелок Кондратьев, мог бы рассказать о том, как переходили они вброд речку в льдинах, как вышли на берег, а рук и не разогнуть: так смерзлись рукава шинелей.
Наш 1-й Дроздовский шел в арьергарде. В Люботине, уже под Харьковом, мы натолкнулись на большевиков, выбили их, получили приказ отходить на станцию Мерефу. Под Мерефой застигла оттепель. Все потекло, стало черным — туманы, небо, земля. Дороги превратились в вязкую трясину, грязь — по брюхо коням. Застревают, захлебываются грязью патронные двуколки.
Полк вымотался. Люди ложились на дороге. Пулеметы тащили на полковых кухнях, снаряды волокли в санях.
И среди наших колонн на мужицких розвальнях покачивался и в стужу и в оттепель оцинкованный гроб капитана Иванова. 4-я рота отходила со своим мертвецом командиром.
Под Мерефой я не исполнил боевого приказа: остановил на марше измученный полк. Мы заночевали в каком-то дачном поселке верстах в пятнадцати от Харькова. Харьков был занят красными.
Мои разведчики где-то разведали кур и гусей, в кооперативе поселка нашлись галеты, макароны. После пиршественного стола с чудесным супом из курятины и гусятины — такого вкусного супа мне не доводилось больше есть — все, кроме охранения, полегли вповалку у огней.
Удивительные люди солдаты. Истинные дети: поели досыта, выспались крепко и спокойно в тепле, и наутро точно переродились. Все забыто. Громкий говор, смех, дружный пар стоит над полком.
С веселой бодростью вошли в Мерефу удалые «дрозды». А в Мерефе сбились в темноте дивизия Барбовича, 2-й Дроздовский и Самурский полки. Наконец-то мы с ними встретились. Все к нам до тонкости предупредительны, рады нам даже чрезмерно. Наперебой приглашают на обеды, на завтраки, на чарочку. Чарочка всюду. Что-то неладное: уж больно за нами ухаживают.
В штабе кавалерийской дивизии генерал Барбович поведал мне о грустных причинах ухаживания. Собственно говоря, все мы в Мерефе отрезаны красными. Ими занята единственная переправа, пробиться по ней не удалось, и теперь у всех одна надежда на славный 1-й Дроздовский полк, что он не подкачает, пробьет дорогу.
Тут-то мы и зачванились. Я шучу, разумеется: мы не зачванились, а только я попросил, когда так, пусть же мой славный 1-й полк пригреют в самое тепло, накормят до отвала и дадут на славу отдохнуть.
Нас кормили кухни всех полков, бывших в Мерефе. То-то был обед, то-то был отдых богатырский. А после отдыха, со 2-м батальоном в голове, я выступил против советской пехотной и латышской конной бригад, перехвативших нам мост у села Ракитного.
Первый полк не подкачал. Удалой атакой после упорного боя мы сбили противника, очистили мост. Уже потянулись через мост пехота и конница. Первый полк побатальонно стоял впереди моста, прикрывая отступление. Я приказал отходить. Тронулось все, подался и я со своим арьергардом — офицерской ротой, командой разведчиков и пулеметной командой.
Вдруг красные поднялись в сильную контратаку. На нас понеслась конница. Если бы мы отходили без остановки, конница — это были латыши — непременно смяла бы нас. Остановка необходима. Полковник Петерс прыгает с коня, я тоже. Мы отбегаем к офицерской роте, на которую мчатся всадники, и с колена начинаем бить по ним из винтовок, мы оба хорошие стрелки. Арьергард остановился за нами, открыл сильный огонь. Красная конница с моста отхлынула.
Я поднялся, чтобы вернуться в строй. Вдруг меня ударило с такой силой под грудь, что я опрокинулся на спину. Дыхание захватило; рука в крови, на гимнастерке кровь, я ранен, я все понимаю, а сказать ничего не могу.
— Командир ранен, командир убит...
«Не убит, нет» — а сказать не могу: перехватило дыхание.
Я стрелял с колена, пуля пробила правую руку, расщепила приклад винтовки, разбила бинокль и ударила под ложечку, соскользнув с кармана гимнастерки, где у меня был серебряный образок. Он меня спас — не то прямо в сердце.
Боль отпустила, могу передохнуть, пытаюсь встать. — Нет, господа, я еще не убит.
Какая прозрачная ясность ощущения всей жизни и смерти в такие мгновения. Я не могу этого передать, но в такие моменты между жизнью и смертью нет больше черты.
Кто-то торопливо рвет зубами бинт, с меня сдирают рубаху, мокрую от крови, перевязывают руку. Образок на груди, благословение бабки на поход, разбит пулей. Мне вынули пулю из-под кожи. Живот намазали дочерна йодом. Точно негр, с обинтованной рукой, я снова сел в седло.
Тогда-то на мгновение мне показалось, что с нами все кончено: по мосту бежал обратно к нам без строя весь 1-й Дроздовский полк, с тяжелым топотом, толпами, с гулким смутным криком.
Мост, стало быть, окружен с обеих сторон, и вот сбиты дроздовцы, загнаны обратно на мост, бегут. Я дал шпоры навстречу бегущим, а ко мне уже скачет впереди «дроздов» командир 3-го батальона полковник Тихменев.
— В чем дело? — кричу я. — Остановитесь, почему драп, почему полк бежит?
— Вовсе не драп! — кричит, смеется Тихменев. — Полк идет вам на выручку.
С моста, быстро рассказал Тихменев, к полку добежали раненые, и в цепях закипел тревожный крик:
— Командир оставлен на мосту, командир ранен, убит, ранен...
Тогда все, одним порывом, без команд, без строя бросились обратно на мост, ко мне.
Тихменев смеется, смеюсь и я, но на глазах у меня и у него непрошеные слезы.
— Скачите к ним, остановите, скажите, что я жив, жив...
Дети мои. Тогда на мосту я хорошо понял, почему старые командиры называют солдат братцами, ребятами, детьми. Ну что же, признаюсь, что я смеялся и плакал на мосту, когда пустил к полку галопом мою Гальку.
Во всю молодую грудь все радостно орут «ура», все держат мне на караул, без команды, без строя, кто где остановился. Галька закидывает уши, приседает от вопля трех тысяч ярых молодых глоток, а у меня живот черный, как у негра, и сбились бинты.
Изо всей силы я сжимаю зубы, чтобы по-мальчишески не разреветься перед всем полком. Ничто и никто и никогда в жизни не даст мне такого полного утешения, такой радости духа, как та, которую я испытал на мосту у Ракитного, когда имел честь командовать доблестным 1-м Дроздовским полком...
А отход был все путанее, все отчаяннее. Исчезли куда-то интендантские склады. Из тыла до нас доходили слухи, что там все бежит, спекулирует, пьянствует, что царюет там одна сволочь и шкурники, человеческая падаль развала.
В те тяжелые дни я сжал полк. Отборных бойцов отправил в Горловку, а других свел в один сводный батальон. Признаюсь, я думал, что люди сводного батальона, особенно из красноармейцев, отстанут от нас при отходе. Но капитан Янчев привел в Горловку весь батальон, да еще с пленными. Я свидетельствую, что и в дни отхода и тылового развала перебежчиков у нас не было. Тогда еще все чувствовали свою честную правду и силу, свою плотную и широкую дроздовскую грудь.
В Горловке был получен приказ оставить Каменноугольный район. Эшелонами и походным порядком, подбирая на пути отставших и одиночек, мы пошли на армянское село Мокрый Чалтырь. Там сосредоточилась вся Дроздовская дивизия. Это было в самом конце декабря 1919 года.
В Мокром Чалтыре стоял английский танковый отряд. Ко мне, в штаб полка, пришли с визитом англичане: лейтенант Портэр и майор Кокс. Потом я отправился к ним. Все англичане оказались прекрасными товарищами. Мы их пригласили к нам встречать сочельник. В здание школы, где были накрыты к рождественскому ужину столы, пришли довольно парадные и слегка чопорные англичане и наши офицеры, тоже подтянутые и с холодком.
Так было до первой звезды. А потом и холодок и все церемонии улетучились. Мы дружно заговорили друг с другом, хотя среди нас и не было особенных мастеров английского языка. Зато надо сказать прямо, что выпито было вдоволь. Англичане удивительно внимательно отдавали честь всем нашим настойкам и наливкам. Скоро за столами стали брататься; и целовались, и клялись в вечной дружбе. Тогда мы хорошо понимали друг друга, не правда ли, лейтенант Портэр, не правда ли, майор Кокс?
Я только подливал, сам не пил, и вскоре незаметно вышел из-за стола. В эшелоне штаба полка, на Гниловской, меня ждали к рождественской звезде моя мать и моя жена, приехавшие тогда ко мне. С капитаном Елецким и ординарцем я поскакал на дорогое свидание.
Темная ночь, звезды в тумане. Вскоре перед нами смутно засветились огни. Огни Ростова. Мы ошиблись дорогой и поскакали к ростовскому вокзалу. Давно я не видел города и теперь не узнал его. Вокзальные залы, коридоры, багажные отделения были превращены в огромный лазарет. Люди лежали вповалку. На каждом шагу надо было обходить кого-нибудь, прикрытого шинелью, переступать через чьи-то ноги, руки. Вокзал стал мрачным лазаретом. Это был сыпняк.
Мы вышли, сели на коней. Темные улицы забиты вереницами подвод, около которых стоят понурые люди. Ждут, когда их двинут куда-то. Тяжелое чувство было у меня в ту рождественскую ночь в Ростове.
Далеко за полночь мы прискакали в Гниловскую, а когда посветало, от Мокрого Чалтыря загрохотали пушки. Мы поскакали обратно. Наступал пасмурный день. Полк уже был выстроен на площади, ждал меня в строю. Тут же суетились англичане, щелкая «кодаками». Красные обстреливали шрапнелью. На самом рассвете они пошли в наступление и прорвали фронт 3-го Дроздовского полка; конница Буденного смяла и тяжело порубила офицерскую роту. Английские танки с английскими командами пошли на выручку и застряли в красных цепях.
Я приказал полку развернуться для атаки. Под звуки старого егерского марша удалые роты 1-го полка, четко печатая шаг, с оркестром двинулись в огонь. Англичане рукоплескали. Наша атака выручила 3-й полк и освободила все английские танки, застрявшие на пашне. С того дня мы с англичанами стали, можно сказать, неразливанными друзьями. Тогда мы все одинаково хорошо знали, что деремся за правду, честь и свободу человека против красного раба, не правда ли, лейтенант Портэр, не правда ли, майор Кокс?
А отход все катился. Лавиной. Ростов заняли красные. 27 Декабря Дроздовская дивизия с обозами и артиллерией переправилась по льду Дона и стала в большом селе Койсуг под Батайском. Я помню Койсуг потому, что потерял там моего боевого товарища, ординарца Ивана Андреевича Акатьева, рослого красавца-солдата, ушедшего с нами в Дроздовский поход из самой Румынии. Красные зарубили Ивана Андреевича в степи.
Корниловская дивизия сменила нас в Койсуге; мы стали фронтом на берегу Дона от Азова до Кулешовки. Только здесь, как я уже рассказывал, 4-я солдатская рота рассталась с гробом своего командира, капитана Иванова.
Гудела проклятая пурга. Милость Божья и милосердие человеческое отошли от России. Россия ожесточилась. Взволчилась — как сказал мне один старик крестьянин.
В Азове в канун дня моего ангела мы получили приказ снова перейти Дон и налететь на станицу Елизаветинскую, где полковник Петерс, о чем я тоже рассказывал, один захватил в метели две красные пулеметные команды. Потом в станице Гниловской мы сменили Корниловскую дивизию, а корниловцы повели наступление на Ростов. Ростов заняли ненадолго и опять ушли. Там все было разбито и глухо. Как будто обмер обреченный город. Последнее мое воспоминание о Ростове: сыпняк, серая вша, заколоченные пустые магазины, разбитое кафе «Ампир».
Первый Добровольческий корпус отходил к Новороссийску. Моему 1-му полку приказано было идти в арьергарде. Такой была его боевая судьба — или авангард, или арьергард. Больше чем на переход оторвался полк от отступающей армии. Когда я выходил из станицы Поповичевской, меня нагнали передовые части конной армии Буденного.
Мы отбили атаку и в два часа ночи тронулись скорым маршем из станицы. Оттепель размыла дороги в отчаянную трясину. Под мокрым снегом мы остановились передохнуть в станице Старостеблиевской. Еще до рассвета, в потемках, вернулись разъезды.
— За нами идет вся конная армия Буденного, — доложили они. — Красные обходят станицу справа, их конница движется на станицу Славянскую.
Конница Буденного, тысячи всадников, перерезает нам дорогу. Выхода для нас нет. Тогда я принимаю решение: тоже отходить на станицу Славянскую, вместе с конницей Буденного. В глубоком молчании полк поднят в ружье. Все бледны, сосредоточенны; лишние подводы оставлены. Посреди полка выстроился полковой оркестр. Плавно зазвенел егерский марш; он слышен всему полку; все сняли фуражки, закрестились.
Полк двинулся на Славянскую по большаку, у самой железной дороги. Вдалеке справа, чернея и колыхаясь в мокром поле, туда же идет конница Буденного.
Дроздовские солдаты, вспомним и в самой горечи изгнания наш марш на Славянскую!
Из тумана, с поля, наехал околоток, больные и раненые, — подвод двести. Околоток заблудился. Обрадовались и раненые и мы: хорошо, что не наехали на буденовцев. Но эти двести подвод в отчаянной грязище ужасно отяготили марш.
Так мы шли часа три. Собственно говоря, мы уже были у красных в руках. Конница Буденного как будто решила, что большаком у железной дороги идет тоже советская часть. Часа три нас не трогали. Мы следили за черными полчищами Буденного, видными простым глазом. Часов в девять утра от конных косяков оторвались разъезды. Галоп к нам. Стали на всем скаку, машут шапками:
— Товарищи, какого полка, товарищи...
Я приказал молчать. Мы идем в молчании. «Товарищи, товарищи», а подскакать ближе — страшно. Повертелись, унеслись. Уже настал день, неожиданно ясный и свежий, с морозцем. Зазвенела под батальоном окрепшая дорога. Идти стало легче. По краю поля, направо, курясь столбами пара, смутно блистая, маячат конные полчища Буденного.
Вот оторвался эскадрон, другой. Мы видим, как всадники развертываются в длинную лаву. Лава несется, слышны крики:
— Какого полка? Что за часть? Почему молчите, товарищи?
Мы идем в молчании. Лавы остановились, открыли огонь. Тогда мы ответили. Залпами. Лавы ускакали. Загремела красная артиллерия. Конная армия Буденного громит нас всеми своими пушками, мы ответили всеми нашими. От грохота как будто закачалась земля. Конные атаки. Одна за другой. Катятся волнами. Мы отбиваемся, не останавливая марша; отбиваемся, идем перекатами, уступами: один батальон отбивает атаку, другой отходит, останавливается, а батальон, отбившийся от него, отходит к голове полка.
От залпов наша колонна зияет одной громадной молнией, и сквозь грохот пальбы все доносится реющий звон егерского марша. Славянская уже видна, и конница Буденного обскакала нас. Станица перед Славянской занята красными; нас встретили оттуда пушечные залпы, крики «ура». Другой дороги нет. Мы двинулись на станицу яростной лобовой атакой, пробились, смели красных, загнали в болото, захватили пушки, пленных.
Но, как темные валы, летят новые лавы. Снаряды кончаются. Вал за валом бьется о нас конница Буденного. Снарядов нет. Когда конница смоет нас, маузер к виску, конец...
И вдруг на железной дороге от Новороссийска показались дымы паровозов. Ближе, ближе, и у нас все заорало в жадном восторге:
— Бронепоезда! Бронепоезда!
Это были наши бронепоезда. Генерал Кутепов, не получая от нас донесений и слыша за собой сильный бой, приказал всем бронепоездам, которые остались на ветке от Тихорецкой на Новороссийск, немедленно идти на помощь дроздовцам. Бронепоездов прикатило, я думаю, не менее пятнадцати. Из всех своих дальнобойных и тяжелых орудий они открыли по коннице страшный огонь. Оглушенные грохотом, мы орали в восторге.
Огонь бронепоездов разметал конницу. 1-й Дроздовский полк был спасен. Наши умирающие, те, кто уже хватал мерзлую землю руками, для кого все дальше звенел егерский марш, смотрели, смотрели на проходящие колонны, а глаза их смыкались.
Так сомкнутся и наши глаза. Отойдут и от нас колонны живых, но память о нас еще оживет в русских колоннах, и о белых солдатах еще и песню споют, еще и расскажут преданье.
Выше голову, «дрозды»! Вспомним наш марш на Славянскую! |