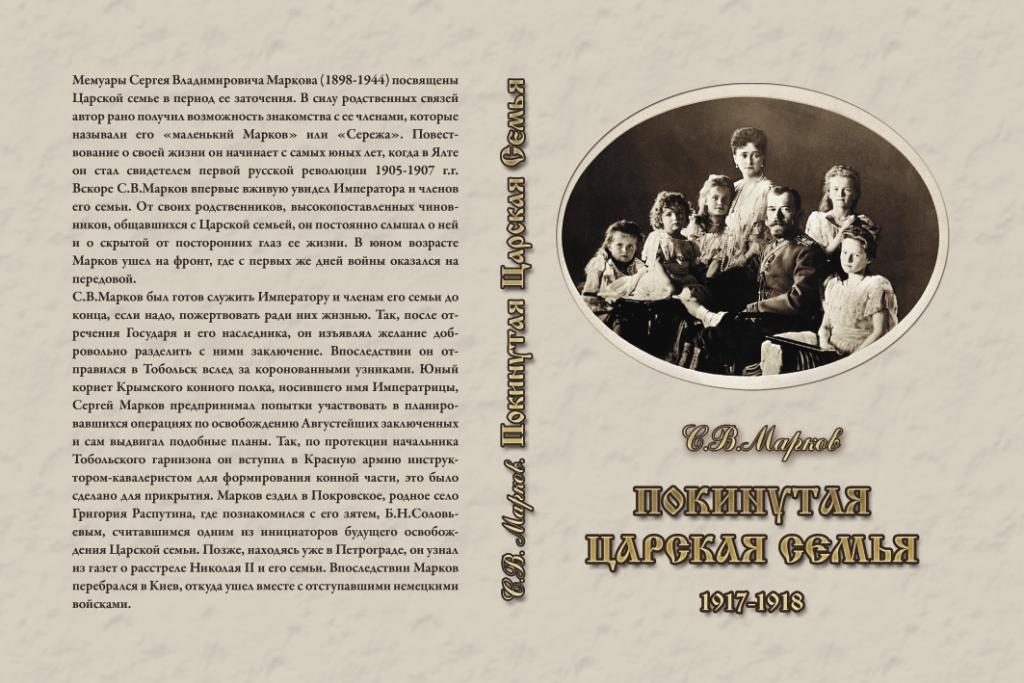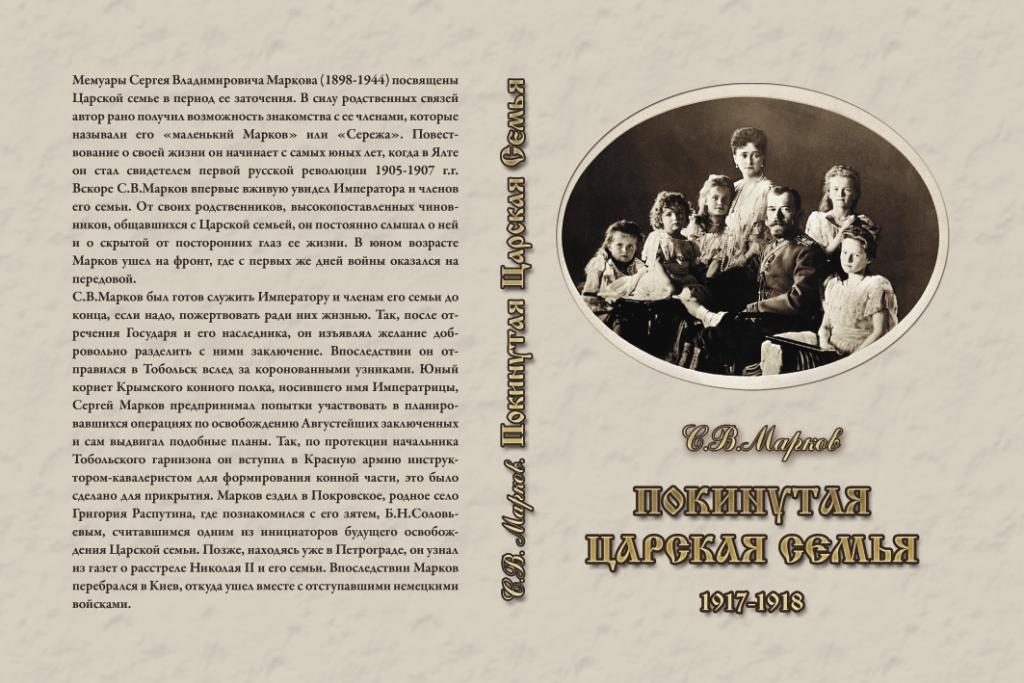
КУПИТЬ
С.В. Марков. Покинутая Царская Семья
Утром 5 марта я отправился исполнять приказание Ее Величества. Новая комендатура помещалась в здании Царскосельской Ратуши. Бедная Ратуша, в былые времена принимавшая у себя Высоких Гостей, чего она натерпелась в эти дни...
У входа в нее стоял вихрастый солдат в расстегнутой шинели. Он курил цигарку и злобно сплевывал на мраморный пол, сплошь заваленный окурками. Винтовка стояла в углу, шагах в трех от него.
Это был часовой! Когда я вошел в вестибюль, с площадки раздался голос:
- Эй, Петро, ты посторонних-то не пущай!
Петро и глазом не моргнул, безнадежно махнул рукой и буркнул:
- Ишь, как прут... Сволочи!
В зале заседаний, в котором громадный портрет Государя был перевернут лицом к стене, а корона на золотой раме завернута красной тряпкой, за столом президиума сидело "милое" общество: "Сам" комендант, полковник Болдескул, два полупочтенных прапорщика и три солдата. На всех были красные банты. Комендант что-то говорил своим коллегам, а один из солдат, стуча кулаком по столу, захлебываясь от восторга, кричал:
Это заседал "гарнизонный комитет".
Комната, где выдавали удостоверения, была полна офицерами. Процедура получения этих достопримечательных бумаг была крайне проста: на литографированном бланке писарем на машинке пропечатывалась фамилия коменданта, который на подписание таких "пустяковых" удостоверений вследствие срочной и неотложной работы не имел времени. Какой-то прапорщик не подписывал, а "подмахивал", не читая, эту бумажку за адъютанта, а счастливый обладатель нового документа шел в соседнюю комнату, где лично ставил печать, валявшуюся на груде бумаг, вываленных из взломанного шкапа. За неимением новой, революционной, ставилась печать Царскосельского бургомистра! Вот текст этого исторического документа. Привожу его, как в своем роде уник, потомству в назидание и пример.
Удостоверение № 62.
Предъявитель сего, Крымского Конного полка корнет М., присоединился к Временному Правительству и находится в распоряжении Начальника Царскосельского гарнизона, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.
Дома я своей рукой прибавил: и имеет право на проезд в Петроград и обратно. Печать
Начальник Царскосельского гарнизона полковник (пропечатано на машинке)
Болдескул.
За адъютанта прапорщик!?!
Как мне жаль старую, почтенную печать Царскосельской Ратуши. Думала ли она, что ей придется увековечиваться на этих гнусных бумажках?..
Получив удостоверение, я почти бегом выскочил из этого здания. "Демократическая атмосфера" окончательно убивала меня. На лестнице я встретил нескольких мальчишек гимназистов, юнцов в форме бойскаутов, таскавших кипами "Известия". Это были добровольцы, распространявшие эту рвань по городу.
Итак, приказание Ее Величества было исполнено: "корнет М. присоединился к Временному Правительству". Какая ирония...
Тогда, в те минуты, когда я получал это удостоверение, мне было как-то не по себе, но впоследствии я понял и оценил важность и необходимость этих "документов", ни к чему ровно не обязывающих. Из комендатуры старик извозчик повез меня рысцой в Собственный Их Величества Лазарет № II, где я хотел повидаться с Маргаритой Сергеевной Хитрово.
Улицы были почти пустынны. Вдалеке слышались одиночные выстрелы. Группы солдат безцельно слонялись по улицам. Было видно много пьяных. Несколько погребов Шитта было разгромлено вдребезги, и около них стояли очереди солдат и каких-то штатских оборванцев, выкрадывавших последние бутылки вина. То и дело проносились автомобили с красными флагами, набитые товарищами, дико горланившими пьяные песни. Вот и лазарет.
Я расплатился с извозчиком и пошел через сад к давно знакомому мне зданию. В гостиной я остановился, пораженный представившейся моим глазам картиной: комната была полна офицерами, частью одетыми в форму, частью в халатах. Стоял невообразимый шум и крики. Слышались возмущенные голоса:
- Зачем убирать портреты! Никому нет дела, что висит в наших комнатах... Это ч... знает, что такое! Мы не позволим снимать портреты и группы, незачем трогать!
Я протискался ближе к середине и увидел странную фигуру с коротко остриженными волосами, в юбке почти до колен и в замшевом френче с открытым воротником. Фигура размахивала руками и громким голосом говорила:
- Нет, их необходимо снять! Ведь я от Совета получила категорическое приказание. Я не желаю за вас отвечать и не могу разрешить оставить группы.
Я понял, в чем дело. Вопрос шел о снятии Царских портретов. Офицеры были против, а фигура все же настаивала на своем. Противно было смотреть на эту мужеподобную женщину. Один из офицеров взволновано обратился ко мне:
- Нет, вы подумайте... Ведь это же безобразие... С каких это пор она так полевела?
Я осведомился, не депутатка ли это из гарнизонного комитета, и почему-то мне вспомнилась картина "заседания" в Ратуше. В ушах еще стоял пронзительный крик:
Эта женщина так и напрашивалась в эту компанию. Офицер с изумлением посмотрел на меня:
- Что вы? Это наш хирург, княжна Гедройц!
Я до того опешил, что не нашелся, что ответить на это, и, совершенно уничтоженный, вышел из комнаты.
В коридоре я встретился с Маргаритой Сергеевной Хитрово.
- Маргарита Сергеевна! Разве это возможно допустить? - вырвалось у меня, и я показал рукой в гостиную.
- Это позор! Это ужас!
На глазах Маргариты Сергеевны стояли слезы. Бедная, до чего она осунулась и похудела за эти немногие дни.
- Идемте отсюда скорее, я еду в Петроград. Тут так тяжело и больно!
Я понял М. С. и не стал ее задерживать. Она пошла одеваться, а я вышел в переднюю. Вскоре она вышла, и мы поехали на вокзал. М. С. уже догадалась о цели моего прихода. Она вечером была во Дворце, и Государыня ей рассказала о моем посещении и передала ей свое желание.
Маленький вокзал был полон солдат, которые запрудили платформу, болтаясь по ней без дела, щелкая семечки и загаживая перрон окурками. Мы с трудом сели в поезд. Тяжелые думы охватили нас обоих, и мы почти молча доехали до Петербурга. Я помог М. С. найти извозчика, и она поехала по своим делам. Мы условились, что, в случае надобности, мы встретимся на квартире моей сводной сестры, Нины Ивановны Кологривовой.
Я поехал на Сергиевскую, где жил мой приятель, барон Георгий Николаевич фон дер Ховен. С ним мне хотелось повидаться и поговорить о текущих событиях и о том, что можно или, вернее, что нужно предпринять для организации лиц, оставшихся верными Их Величествам в эти трагические дни.
Улицы, по которым я ехал, были завешаны красными тряпками. Угрюмо и печально вырисовывались здания участка против вокзала. Это был черный обгоревший остов громадного дома, погибшего во славу революции... По тротуарам валом валили солдаты, грязные, расстегнутые, громко крича и ругаясь. Публика боязливо жалась к стенам домов. Владимирская площадь напоминала площадь уездного города в базарные дни. Она была запружена разношерстным людом. На тумбе стоял какой-то подозрительный субъект и хриплым голосом держал речь собравшейся вокруг него толпе.
Возгласы: правильно! - оглашали воздух.
Солдат, стоявший неподалеку от тумбы, здоровенный веснушчатый детина с оборванными погонами, безсмысленно орал: - Мы должны! Да, мы должны!
В чем дело, и что были "должны" эти люди, я так и не разобрал.
На углах улиц стояли гимназисты и реалисты с белыми повязками на левых рукавах с красными буквами "Г. М.", это значило "городская милиция". Они важно расхаживали по улицам, видимо, с трудом таская на ремне берданки, зачастую бывшие длиннее их обладателей.
Наконец извозчик остановился и по случаю "дней упоения свободой" содрал с меня синенькую вместо полутора рублей, которые я платил еще неделю тому назад.
Барон был дома. Он сидел у себя в кабинете и мрачно дымил папиросой. Я ему подробно рассказал про все свои перипетии последних дней. Барон, женатый на дочери члена Думы князя Ш., благодаря близости к политическим кругам, был в курсе общественной и политической жизни и, несмотря на свои сравнительно молодые годы, был человеком весьма положительным, серьезным и всесторонне образованным.
Он внимательно выслушал меня.
Я просил его информировать меня о создавшемся положении последних дней.
Барон мрачно смотрел на вещи: новая власть, несмотря на столь легко одержанный успех, потеряла темп, образовался Совет солдатских и рабочих депутатов, с места заявивший, что он является органом контроля над действиями правительства. Получалось, что власть, якобы облеченная народным доверием, таковым уже не пользуется. Поэтому настроение в новых верхних сферах было совершенно растерянным.
Власть Временного Комитета Государственной Думы вообще, и военной комиссии во главе с Гучковым и полковником Энгельгардтом, в частности, была фикцией. Они совершенно выпустили из рук управление Петербургским гарнизоном, и оно как-то незаметно перешло в ведение "военной секции Совета солдатских и рабочих депутатов", обильно расклеивавшей по городу приказы, отменявшие все, что на военной службе вообще можно было отменить, устанавливающие новые права солдата-гражданина и сводящие к нулю положение офицеров.
Приказ этот по существу был сумасшедшим бредом, а в обстановке военного времени он являлся предательством и изменой. Благодаря его демагогичности, он, как молния, разошелся по казармам и сразу обратил огромный гарнизон в стадо животных.
Из Кронштадта вчера вечером были получены кошмарные известия о массовом убийстве офицеров на эскадре и в Кронштадтском порту. По слухам, были убиты начальник порта адмирал Вирен, адмирал Небольсин и более ста пятидесяти офицеров были замучены и сброшены в прорубь. Утром было получено известие об убийстве Командующего флотом адмирала Непенина. Сообщение с Кронштадтом было почти прервано.
Несколько человек, вырвавшихся оттуда, передавали уму непостижимые подробности совершившихся злодеяний. Особенно жестокие убийства были на второй бригаде линейных кораблей, где на судах происходила форменная бойня офицеров.
Офицерство Петрограда было терроризировано и пряталось по домам. Главное, оно было не организовано. В первые дни не нашлось человека, который объединил бы вокруг себя офицеров, поэтому был упущен целый ряд благоприятных моментов, когда можно было легко и в корне подавить начавшийся мятеж. Например, броневой дивизион был отдан в руки взбунтовавшихся, в то время когда его можно было удержать в офицерских руках. Понятно, что можно было совершить, имея такое оружие в своем распоряжении...
Взвесив создавшееся положение, мы с бароном пришли к убеждению, что в данный момент можно думать только о том, как составить круг лиц, безусловно преданных Их Величествам, и выжидать дальнейшего развития событий. Хотя и было всенародно объявлено, что с падением старого режима все люди равны и свободны и никому нет дела до того, кто к какой партии принадлежит и кто как думает, жизнь показала иное, и поэтому было необходимо быть сугубо осторожным при создании нашей организации, каковая должна была быть тайной и основанной на чисто масонских принципах с применением иезуитских методов работы и борьбы...
Но мы решили ничего не предпринимать без согласия на это Ее Величества, и поэтому я немедленно же написал письмо Ю. А. Ден с просьбой передать его на благоусмотрение Ее Величества. В этот вечер я не вернулся в Царское, а остался ночевать у барона, тем более, что наша беседа затянулась почти до самого утра.
"Ее Величество и Их Высочества находятся в опасности, - писал я на другой день у себя в лазарете Юлии Александровне. - То, что мне пришлось пережить за эти последние дни, и то, что мне пришлось видеть своими глазами, слишком красноречиво говорит, к чему мы идем и чего мы можем ожидать. Я только что вернулся из Петрограда. Настроение там отвратительное. В городе царит полнейший произвол. Все находится в состоянии полной сумятицы и неразберихи. Глубокоуважаемая Юлия Александровна, вникните в мое письмо, поймите чувства, кои обуревают мною в эту минуту. Есть еще люди, преданные Их Величествам. Мы хотим собраться, сорганизоваться и стать посильно на страже Их Величеств. Мы отдаем наши жизни Им на служение. В этом наш долг, в этом наша жизнь. По всему видно, что Их Величествам нельзя будет оставаться в России. Им грозит слишком большая опасность. Если эти негодяи не выпустят Их, мы найдем способ освободить Их Величеств из этого подлого плена. Мы готовы на все.
Умоляю Вас довести до сведения Ее Величества это письмо. Мы сделаем так, как Ее Величеству угодно будет. Лично моя жизнь кончена. Я готов бросить своих родителей, свой дом и единственным счастьем для меня на этом свете будет непосредственная служба Их Величествам.
Прошу Вас, умоляю Вас, передайте Государыне, что, если Она покинет Россию, я готов последовать за Ней в качестве последнего слуги! Это единственное, к чему я могу сейчас стремиться!
Я надеюсь, Вы поймете меня и простите за смелость обращения! У меня сердце разрывается на части при мысли о том, что я не с Вами, что мне пришлось третьего дня покинуть Дворец...
На все воля Божья!
Я еле владею собой, чувствую себя совершенно разбитым морально и физически. Я никогда не забуду Вашего отношения и участия, которое Вы проявили ко мне. Передайте Ее Величеству мои чувства безграничной любви и преданности до конца дней своих.
Пошли Господь сил и крепости в эти безмерно тяжелые и кошмарные дни. Да сохранит Вас Господь Всемогущий милостивой десницей Своей".
Я подписал письмо, потушил лампу на письменном столе и сел в глубокое кресло перед окном.
Город тонул в прозрачных лучах лунного света. Жизнь замерла. Только немногие испуганные обитатели быстро спешили по пустынным улицам домой. Изредка, оглашая воздух пронзительным ревом, проносились автомобили, нарушая дремоту спящего в тяжелом сне города... Я стал забываться в полусне.
- Артемин! Держи ее, шкуру проклятую! Ишь, буржуйка стоеросая! С нашим братом якшаться не хотит! - услышал я пьяный голос с улицы.
Я очнулся и взглянул в окно. Напротив нашего дома на тротуаре сидел мертвецки пьяный солдат. Его сотоварищ в подобном же состоянии безпомощно обнимал фонарный столб. Вдали по улице виднелась бегущая женская фигура, которую, видимо, преследовали эти герои... Солдат, державшийся за столб, вместо ответа прохрипел могучим басом:
- Поглядь, Никола, як вона зашпаривает!.. Не желит, значит, понимать, что теперича свобода!
Очарование ночи прошло... Это была жуткая, мрачная действительность. Я отошел от окна. |