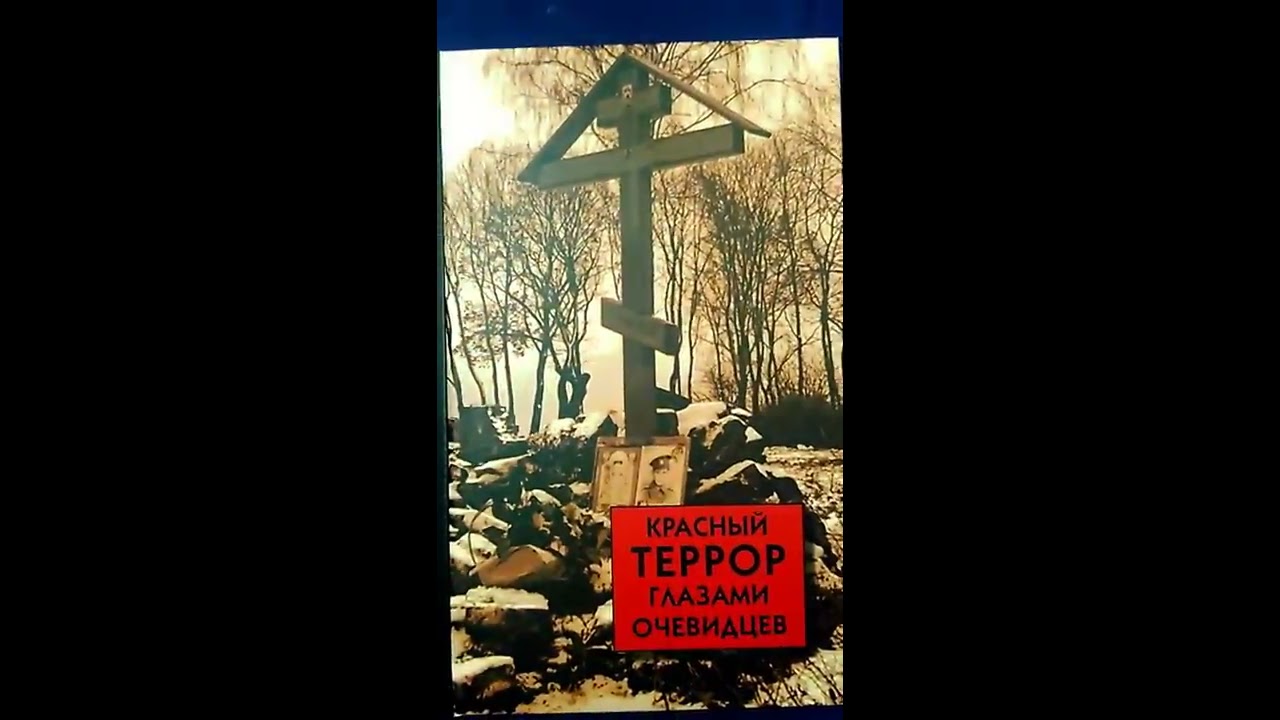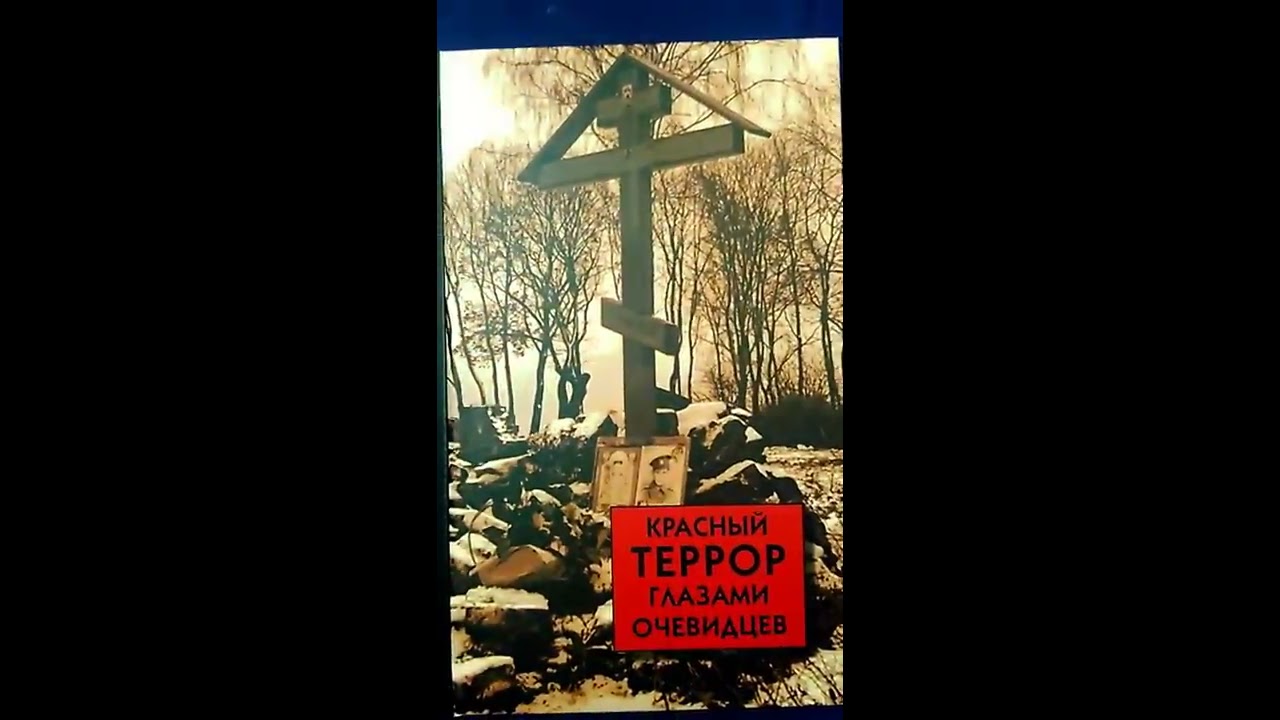
Прошла кошмарная ночь с 31 октября на 1 ноября — последняя ночь пребывания армии Врангеля в Ялте, и наступило светлое, тихое осеннее утро 1 ноября. Наверное, солнце испугалось, осветив красавицу Ялту — ее набережную, мол и Массандринский спуск, при виде того хаоса, какой из себя представляли эти еще вчера такие чистые и красивые места. Повсюду, куда ни посмотришь, — стоят оставленные, крепко сжатые друг к другу телеги, арбы, поломанные тачанки, двуколки, затертые походные кухни, набок свалившиеся и окончательно загораживающие дороги передки орудий — и чем ближе вы подходите к молу, тем теснее, тем сплоченнее стоит опустевший замерший обоз…
Дальше дороги нет! Всюду серая, сплошная масса, нет никакой физической возможности пробраться к молу через это бесконечное количество колес, дышел, кузовов, странно сплетенных и наваленных друг на друга. Вы обходите со стороны городской управы и по узкой панели вдоль самого моря подходите к молу. Кое-где попадаются одинокие лошади, печально бродящие с помутневшими оловянными глазами, их ввалившиеся бока, поломленные копыта и набитые до крови спины свидетельствуют о длинных переходах и тяжестях боевой жизни. Бедные! Сейчас ненужные своим хозяевам, которые при всем желании не могли бы вас взять с собой. Вы посмотрите на этот пароход, который сейчас должен отойти — разве найдется там место?!! Гудок один, другой, третий. Пароход медленно отходит. Слышно «ура!». Не боевое «ура!», а скорее успокаивающее себя и дающее понять остающимся, что хоть и уезжаем Бог весть куда и на сколько времени, даже, может быть, навсегда из родной страны, а все-таки не страшимся этой темной гнетущей неизвестности!! На моле сердобольные обыватели плачут, кричат тоже «ура!», но грустное, печальное…
В ялтинских обывателях совершенно не видно того злорадства и наглости зазнавшегося осла, которым так отличались в других местах при отступлении Армии. Многие кричат: «Возвращайтесь скорей!» Многие бабы бросают хлеб (несчастные, они не знали, что через неделю этого хлеба, которого так много было в «осажденной крепости — Крыму», нельзя будет достать никакими просьбами, ни за какие деньги). Вот пароход медленно бортом прошел мимо стоящего на рейде крейсера «Генерал Корнилов»[110] — и вдруг всю Ялту огласило «ура!». Но уже бодрое, громкое, могучее «ура», с которым эти орлы ходили в бой, побеждали и умирали. Это Армия приветствовала своего вождя, который в серой генеральской шинели, высокий и стройный, приехал провожать своих птенцов. Через некоторое время за большим транспортом подняли якорь другой и третий, маленькие, — и мол опустел… Как-то вдруг тоскливо и невыразимо жутко стало! И я почувствовал какой-то душу леденящий, охватывающий всё существо страх, безысходность и страшное одиночество! Читаю на лицах всех щемящую пустоту, как будто сейчас лишились того, чего уже нельзя вернуть ничем? Что невозвратимо, как сама судьба!..
На здании Городской Управы медленно взвился красный флаг… Свершилось?! Догадливые осторожные жители, привыкшие и приноровившиеся за эти тяжелые три года ко всяким переменам власти, ждут победителей. На море прямо на юг видны дымки уходящих пароходов. На далеком рейде стоит большой 4-трубный крейсер под американским флагом, а налево по направлению к Феодосии чуть видной точкой удаляется «Генерал Корнилов». Тихо! Мертвенно тихо. Все незаметно стараются удалиться, не обращая внимания на все те богатства, которые валяются по дороге и в раскрытых таможних складах. Домой! Скорей домой! Чтобы не заметили и не донесли, а то потом придется отвечать за проводы белым… А день тихий! Тихий… какой может быть только на южном берегу Крыма в середине осени. Солнышко такой чарующей, нежной теплотой обволакивает все существо… В воздухе длинными нитями летает паутина. И каким-то душу режущим диссонансом поражает этот тихий осенний день, эта прозрачная стеклянная синева моря, эти ввысь уходящие с белыми верхушками великаны-горы, — и эта картина разрушения, которую вы видите тут: это бесформенно наваленное и скомканное, которое всего несколько часов назад жило-было послушно и стройно, что просто привыкли называть останки отступающей сильной армии.
И именно этот контраст, бросающийся повсюду в глаза, наводит еще больший, невыносимый, панический ужас! Бежать! Скрыться! Исправить как-нибудь создавшееся положение, пока еще не поздно!! И я побежал… Не разбирая куда, зачем, а так просто скрыться куда-нибудь подальше, чтобы не видеть, не слышать того, что будет. И чем дальше, тем больше прибавлял ход, шел куда-то в гору, то спускался — иногда по тропинке, а то и просто карабкался между кустами и камнями, подгоняемый все тем же животным, невыразимым ужасом. Жарко?! Хочется пить! А под горой так заманчиво бьется родник с холодной прозрачной водой. Остановился, припал и долго пил, пока наконец, задыхаясь, остановился и только теперь или от холодной воды, или просто от переутомления, начал соображать, куда я иду.
Крым знал я хорошо, потому что родился в нем, но только гораздо севернее, в степной полосе Джанкойского уезда. Бывал и здесь, но горных троп не знал. Начал ориентироваться: справа море, слева глыбы гор, впереди виден Аю-Даг. Где-то влево недалеко задребезжала арба — ага, шоссе близко! По всем моим соображениям я находился недалеко около Гурзуфа. Решил идти прямо правее, чтобы не подходить к шоссе, чтобы выйти к Алуште, там в толпе незаметным пройти и выйти снова горами к Карасубазару, а там домой. Совсем вечером залез в пещеру и спал, пока солнце было уже совсем высоко — подождал еще и пошел по направлению к Алуште. Уже в сумерках вошел на набережную — тихо, все как будто вымерло. Магазины и лавки закрыты, ставни в домах тоже. Смотрю дальше, верховой с винтовкой и кучка людей возле него. «Ну, Боже, помоги! Может, пройду благополучно».
Прошел незамеченный, иду дальше не оглядываясь, навстречу второй всадник. Равняюсь и как-то инстинктивно за шапку берусь, чтобы поздороваться, приноравливаясь тем к местному жителю. «А ты, товарищ, откудова сам будешь?» — сдерживая лошадь, спрашивает всадник. «Здешний», — отвечаю. «А шинель-то у тебя откудова?» — если бы гром в эту минуту загромыхал, если бы земля подо мной провалилась, не так бы испугался и растерялся я, как в эту минуту. «Погиб! Погиб! — стучит в голове неотвязчивой мыслью, — как не догадался бросить ее, проклятую». «А?» — продолжает всадник. «Да это, это у белых… проходивших купил». «Эй, сюда кто-нибудь!» — крикнул он по направлению к кучке. «Здешний он али нет?» — спрашивает подошедших. «Не-ет», — протянул один. «Да это из врангелевских из оставшихся будет», — с угодливостью и с улыбочкой говорит другой. «Ишь, шельма, пробраться хотел!» — прибавил он.
Взяли меня и повели к Европейской гостинице, где главный ихний находился. Судили, плетками замахивали, допрашивали, но не били, только ругались сильно; потом решили отправить в Симферополь (как я впоследствии узнал, это был передовой отряд, вернее усиленный разъезд, двигавшийся к Ялте). К вечеру следующего дня измученного, с затекшими руками и ногами, голодного подвезли меня к гостинице «Гранд-Отель», где ихняя армейская судная часть помещалась. Там уже много таких, как я, в нижней комнате было. Всю ночь просидели, утром есть принесли похлебку и по куску хлеба, потом вывели всех нас под конвоем и в тюрьму, что на площади, отвели. Там шесть дней сидели, кормили, поили — хлеба уже мало под конец давали. А потом в Симферопольскую губернскую, по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Чрезвычайную комиссию отвели.
Еще в тюрьме говорили, что у них в армейской судной комиссии, а вернее в судной комиссии особого отдела XIII армии, ничего не делают, а ждут приезда Чрезвычайки, которая уже разбирает. Дня четыре-пять тому назад в тюрьме говорили, что приехала такая. Вывели нас под утро под сменным конвоем, водили по таким местам, что я никогда не бывал, потом привели в какой-то большой двор, построили в затылок и велели рассчитаться по три. Когда рассчитались, то всех первых №№ вправо куда-то увели, я ко вторым пришел. Нас прямо вниз в подвал отвели и заперли.
Много я слышал о зверствах чрезвычаек, знал, что редко кто оттуда выходит живым — почти не бывает этого. А в тюрьме еще больше наслышался — все называли здесь двух приехавших палачей: Ивана Зуба, будто бы раньше палача Орловской чрезвычайки, и Якова Сабурина, бывшего сахалинского каторжника; много всяких жестокостей, много всяких убийств на душе у них лежало. Поэтому можете представить, какое самочувствие было!
Прошло немного времени, входят несколько человек вооруженных, построили нас снова, долго выбирали, высматривали, потом каждый выбрал себе по четыре человека и увели с собой. Со мной в группе были: толстый чиновник, служащий в Симферопольском казначействе; мрачный, худой и высокий студент, его еще в тюрьме все называли «черным», и высокий офицер, все время молчавший, только рассказал, что он не эвакуировался, потому что в Киев к родным ехать собирался. Привели нашу группу в другой подвал, гораздо меньше и ниже, так что согнувшись нужно стоять, слабо освещенный ночником. Снова записали фамилии наши, а потом № дали каждому. «Фамилии забудьте тут, а помните №№ свои», — сказал один. Мне выпал тринадцатый номер.
Когда он ушел, я стал рассматривать своих сотоварищей, всех было четырнадцать человек. Все сидели скорчившись, молча, и все тупо смотрели куда-то в пространство. «Вы думаете, что это и весь подвал? — начал недалеко от меня сидящий господин, прикрытый не то одеялом, не то пледом полосатым. — Нет, батеньки, это маленькое отделение всего этого проклятого подземелья! Вы взгляните вправо, там тоже как будто темнеет углубление, а до этого так мы сидели в другом! Что это они нас все сортируют, да переводят из одного в другое? Наверное, тоже свои соображения есть?» — «Да перестаньте вы молоть чепуху! И без того тошно, а вы все соображения свои высказываете», — с раздражением перебил «черный» и захрустел пальцами. «Сейчас кончу, только знать бы мне хотелось, в чьем доме мы находимся, вот девять лет живу здесь, а как начали водить, так запутался, ей-богу! И улицу-то не заметил! А вы не очень-то отчаивайтесь, может, Бог даст по-хорошему обойдется!» — докончил он. «Ах! Хотя бы скорее! Только б не терзали этим бесконечным ожиданием!» — снова сказал «черный».
Рядом со мной сидящий чиновник медленно поднялся и, согнувшись, пошел к углублению, но вдруг отшатнулся и, громко ударившись головой об свод, быстро подбежал и, как сноп, опустился на свое место. Я ясно слышал, как у него стучали зубы. «Что? Что такое?» — со всех сторон посыпались вопросы. Он ничего не отвечал, только медленно теребил слипшиеся от холодного пота густые волосы. Свет от ночника падал на него и еще бледнее делал его небритое, оттеняющееся черными волосиками лицо, — глаза были расширены, и в них был не страх, не ужас, а нечто большее, звериное, невыразимое!
Влекомый любопытством, я поднялся и дошел до темного углубления — здесь круто вправо соединенное сводом было такое же самое помещение, в каком находились мы. Только потолок был еще ниже. Впереди вижу еле заметную полоску света. Инстинктивно бросаюсь к ней, хочу припасть глазами, чтобы с жадностью рассмотреть внешнее, но спотыкаюсь обо что-то мягкое, мокрое, шуршащее. Вглядываюсь — Боже!! Шарахаюсь в сторону… Удараюсь головой об свод, падаю… и ползком долезаю к своему месту. Вот когда меня охватывает ужас. Ужас той страшной, отвратительной неизбежности, которая ожидает меня. То, что я увидел, останется навсегда в моей памяти. Это была всего минута, меньше — секунда, а у меня так ясно запечатлелось все в подробностях.
На полу была зарубленная женщина: ее туловище без головы лежало распластанным в луже еще не засохшей крови. Поближе к свету, отдельно, валялась голова с распущенными длинными волосами. Вместо носа была зияющая кровавая рана, и я до тонкости рассмотрел белеющий носовой хрящ. Одного глаза не было, и вместо него было темное отверстие. Все лицо было в порезах и кровавых рубцах, кое-где виднелись страшные следы пальцев в виде темных подтеков. Верхняя губа рассечена и из кровавой десны одиноко торчал длинный зуб… Все время в подвале я замерзал от холода, а после этой картины мне стало жарко! Я почувствовал, как мои руки сделались липкими, а внутри у себя чувствовал ужас! Ужас! Ужас!
Воцарилось глубокое молчание — все притаили дыхание, даже словоохотливый рассказчик в полосатом пледе как-то осунулся и молчал! Не чувствую ни так мучившего меня за эти последние дни холода, наполнявшего весь этот сырой подвал. Полное оцепенение! Только в голове ясно слышу, как стучит кровь — как будто кто-то долбит маленьким тупым молоточком… Ночник начинает тухнуть, никто не хочет встать поправить — все как будто прикованы к цементному полу. Хочется курить!.. Последняя вспышка, и лампа потухла. Темно — сразу стало даже как будто лучше, не видно ни этого мрачного, как гроб, подвала, ни этих осунувшихся, искаженных бледных лиц. Но через несколько минут ощущаешь новую волну страха… Вот он незаметно подкрадывается, вот охватывает все больше, все крепче! Хочется кричать, хочется видеть, ощущать кого-нибудь, в крайнем случае биться головой об стенку — только бы чувствовать, что ты живешь, что ты еще не умер. И так хочется жить, так хочется еще раз увидеть свет, что я не выдерживаю и под впечатлением всего пережитого чувствую, как у меня что-то оборвалось, я крикнул и зарыдал! Плакал, как ребенок, кричал, ругался, кусал себе губы и чем дальше, тем сильнее чувствуя невыразимое душевное наслаждение и приятно ломящую истому во всем теле. Последнее всхлипывание — и я лежу на холодном, грязном полу, касаюсь его лбом, губами и так приятно щекочет этот холод мое горящее, еще подергивающееся от недоконченных рыданий лицо.
Долго лежал в таком оцепенении, ничего не соображая, ни о чем не думая и не замечая… Раз… Два… Кто-то медленно спускается по каменной лестнице — все яснее слышны тяжелые мужские шаги, позвякивающие об камень ступенек медными дребезжащими подковками. Вот остановились, слышны звуки вкладывающегося в дверь ключа… Несколько скрипящих поворотов, стук отодвигаемого заржавленного засова, и мне в лицо ударяет целый сноп горящего от фонаря света и струя свежего морозного воздуха… Сразу даже больно смотреть. «Ишь, черти косолапые, потушили свет!» — раздался грубый голос здорового, в казенном дубленом полушубке и серой солдатской шапке с красной звездой мужика. «Вот я вам покажу, проклятые, — ну, живо ворочайся, сволочь!» — и, нагнувшись, начал доставать из бокового кармана какой-то бумажный сверток. «На допрос первый, третий, седьмой, одиннадцатый и четырнадцатый. Эй, товарищи, возьми их!»
Медленно поднялся и перекрестился чиновник. Молча, нагнувшись, прошел высокий офицер. Поднялся, с отчаянием дикого загнанного зверя, «черный», еще больше худой и высокий на своих шатающихся длинных ногах. Посмотрел на нас долгим, полным ненависти завидующим взглядом, каким может смотреть только обреченный на смерть человек на наблюдающих за ним остающихся людей! Встал и, странно склонивши голову набок, прошел в зеленой английской шинели татарин, окинув всех безразличным, а вернее просто не сознающим, тупым взглядом своих маленьких черных глаз.
«Сколь у вас там?» — крикнул мужик с фонарем, обращаясь к темному выходу. «Четыре», — раздался ответ сразу двух голосов. «Ну еще! Где ты? Гусь лапчатый!» — подымая фонарь, обратился мужик по направлению к нашей стене. — Что, встать не можешь? Так подыму живо!» В луче фонарного света я увидел стоящего на коленях седого широкоплечего старика, который медленно с полным достоинством откладывал земные поклоны и неслышно шептал побелевшими губами слова молитвы. Было что-то величественное во всей его фигуре и позе — ни один мускул на лице не выражал волнения, только истово сложенные длинные пальцы на лбу в виде крестного знамения слегка дрожали. «Ну, вставай! Ты, старый хрыч, тоже выдумал здесь — небось ежели святой, так и без энтово приймут в рай!» Старик медленно, с трудом начал подниматься, сначала уперся руками об пол, потом об стену и, нагнувши голову, начал медленно выходить. «Это матерый зверь — видно, из генералов будешь!» — сказал мужик и с силой ударил ножнами шашки по согнутому затылку старика.
Послышался слабый стон и шум падающего большого тела. «Ну?» — полный дикости и злобы, скорее похожий на звериное рычание, раздался крик… И — дальше нельзя описать той омерзительной, той ужасной животной сцены, которая произошла… Я слышал удары приклада винтовок обо что-то мягкое… потом хрустящий треск — раздался стон, заглушаемый нечеловеческим криком: «Вставай, скотина! Убью!» Снова удары… Свист и лязг об каменный потолок шашки, и… я закрыл глаза и заложил пальцами уши… Когда я посмотрел снова, то было темно и тихо — только едва слышен был удаляющийся топот нескольких ног по каменным ступеням вверх. За что? За что? Ведь даже не узнали, кто это за человек? Виноват или нет? Неужели сейчас это будет и со мной?!.. Чувствую, как во рту все пересохло, хочется пить и освежить себе голову, а главное двигаться, чтобы в быстром движении забыться и не думать о том, что так неотвязчиво стоит перед глазами.
«А ведь сейчас ночь!» — обратился я к своему соседу, чтобы хоть этой никому не нужной фразой отвлечь напряженное вниманье — и мне вдруг сделался странным свой голос, до того он был неузнаваем. И захотелось еще что-нибудь сказать, и услышать себя, и говорить, и смеяться, потому что это было смешно и странно… «Да, наступит утро и вот целые сутки, как мы здесь!» — снова начал я. Но вдруг по какой-то странной, совершенно случайной ассоциации мыслей я представил себе, как буду проходить эту дверь, с каким чувством стану на ступень одну, другую, третью и т. п.
Создаю мысленно дальше до тончайших подробностей все, что со мной должно случиться. Как это забавно, а главное, отвлекает от страшной действительности, вот прохожу двор, за двором, наверное, будет сад! Да, обязательно сад и снег, и мы, нас трое: я и два конвойных, идем по глубокому скрипящему снегу и доходим к дереву, и я становлюсь у толстого ствола. «Товарищ, повернись спиной! Смотри на луну! — и я поворачиваюсь и чувствую, как мне в затылок направлены два дула и щекочат меня, и мурашки бегают по спине… — Ну, скорей…» А луна яркая и улыбается мне… «Ну?..» И вдруг чувствую сильный толчок и в тот же момент ощущаю в затылке два укола, как будто обожгли меня двумя тончайшими раскаленными добела иголками. А потом так легко, легко стало, наверное, душа от тела отделяется: так что же здесь страшного? Наоборот, легко и приятно стало. Вот я, т. е. моя душа, быстро летит прямо к луне, дух захватывает… И на зубах передних мороз чувствую, а главное — эта необыкновенная легкость, как будто нес драгоценную ношу, и изнывал под огромной тяжестью, и никак не мог отделаться от нее, — всё жаль было бросать, а потом спотыкнулся и разбил ее — и вдруг легко стало и не жалко, когда увидел липкие бесформенные куски, в пыли лежащие. Так вот она, смерть, что же это? Значит, только неизвестность смерти страшна, процесс приготовления к ней, а сама по себе, т. е. превращения из Бытия в Небытие, даже радостна… И внезапно весь мой организм охватывает такая безумная, такая неудержимая радость — радость познания этого Великого, Неизвестного, того, что мы привыкли называть Смертью, что я начинаю громко хохотать, бросаюсь к моему соседу — целую, обнимаю, захлебываясь, передаю, что «смерти, как чего-то страшного, огромного нет, а есть дивное, легкое отделение души от этого грешного тела, которое сейчас чувствует и голод, и холод, и страх, и усталость!! Я сейчас пойду на смерть счастливым, без малейшей боязни, лишь бы скорей вели только!!»
Меня со страхом и злобой отталкивают: «Рехнулся! Помешался, — раздается голос из темноты. — Да и немудрено от всего этого! Да!» А мне смешно и радостно глядеть на ихнее непонимание… Слышны приближающиеся шаги… опять отодвигается с шумом засов, опять открывается дверь и опять нам в лицо ударяет фонарный свет вместе с морозным воздухом. «Взять его нужно отсюдова, чего валяться-то будет!» — обращается тот самый мужик в дубленом полушубке к кому-то за дверью. «А он готов?» — «Да разве после меня жить кто останется! — с самодовольным смехом сказал мужик в полушубке. — Ведь руку Яши Сабурина все знают!» Начинают медленно подымать что-то большое, бесформенное, случайно свет фонаря упал на эту темную массу, и я увидел слипнувшиеся в крови, беспорядочно висящие седые волосы и тянувшуюся по полу окровавленную руку… «А здорово ты его это угодил по черепу — вишь как рассек!» — снова со смехом сказал один, и все скрылись за дверью. Стук засова — и мы опять в темноте, опять чувствую ту же усталость и голод, клонит ко сну, полная апатия ко всему случившемуся, до того притупились нервы за это сидение и ожидание. «А хорошо бы заснуть», — подумал я и даже зевнул…
Проснулся от чьих-то всхлипываний, сдавленного шепота, начинаю прислушиваться: «Да ведь он прав! Тысячу раз прав! Ну чего бояться смерти! Ведь лучше она, чем это невыносимое ожидание ее, да еще как подумаешь и начнешь представлять себе те мучения и пытки, какие над тобой эти звери учинят, так вот, ей-богу, сейчас не моргнув пошел бы на плаху!! Вон допреж вас как сидел я в другом подвале, так ночью этак семь человек повели на допрос (они всегда так вызывают), а потом часа через два приводят одного обратно, это у них очень редко случается. Я-то уже второй и, думаю, последний раз сижу в Чрезвычайке, а первый раз в прошлом году в Харькове сидел, да добровольцы выручили! Да! Так вот, что он потом нам рассказывал: привели их в большую комнату, не так большую, как длинную, сбоку лампа горит и ярко так светит после подвала-то. Подвели их на середину комнаты, велели всю одежду снять, чтобы нагими остались, построили по парам друг против друга (а он как лишний так к стенке в сторонку отошел). Сбоку комиссар и человек десять с револьверами стоят. Дали каждому приведенному по хорошо отточенному клинку шашки, и крикнул комиссар: «Ну, ребята, кто хочет жить, так выручайте жизнь вашу! По счету «три» руби супротив стоящего, а кто раньше замахнется, так мы с ним сами расправимся», — и револьвером погрозил. Ну начал тянуть: «Раз!.. Два!..» Смотрят на них палачи, как они глазами-то друг друга едят, наслаждаются видом бессовестным… «Три!» И гляжу, говорит, два на ногах остались, у одного рука левая разрублена, кожа, как очахнутая ветка, висит и кость видна, а другому полскулы вырублено. Стоят они в крови голые, да такие страшные, что в дрожь бросило. Подходит комиссар с подчиненными и револьвер в руке держит. «Ну, миленькие! Да и глупые вы, ну подумайте, куда вы калеки да изуродованные годны-то будете! Не лучше и вам туда отправиться!» — И он револьвером на потолок показал. Взвыли они, сердечные, просятся, на колени один упал, сапоги целует. «Не губите, родимые, пожалейте! Жена, дети сиротами останутся, не виновен я перед вами! Крест готов целовать на этом, помилуйте! Дома всех Богу заставлю молиться за вас, сердечные!» И плачет, и руками за колени схватить хочет, кровь во все стороны брызжет от кожи-то очахнутой. А комиссар наклонился и шашку у убитого одного взял, а потом вдруг улыбнулся злой улыбкой, скорей зубы по-волчьему оскалил и говорит мягким голосом: «Ну иди домой, только смотри не обмани, что Богу-то своему молиться будешь за меня, грешника окаянного!» — «Спасибо! Век незабуду, спасители, всех заставлю поклоны отбивать и…» — «Ну, скорей беги только, а то еще раздумаю!!» Повернулся несчастный лицом к двери, только шаг хотел сделать, как мертвым упал, не шелохнулся, только руки вперед вытянул. Шашкой по темени, значит, угодил, а другого в три шашки на куски изрубили. Но этим дело не кончилось, сложили всех убитых на три кучки голова к голове, а ногами к ногам — и начали об заклад биться, кто перерубит одним разом, сначала шею, потом туловище и т. д. Вот стал комиссар первым рубить: тррах! — не попал как следует, по уху да скуле задел, только кости затрещали, разозлился, выругался так, что передать страшно — глаза кровью налились, губы красные стали, жилы на лбу вздулись и еще раз… Только головы откатилися и одна прямо ко мне под ноги зашумела: глаза открытые, кровь течет — задрожал он, как осиновый лист, кровью запахло, почувствовал, как шапка на голове зашевелилася, затошнило, а все-таки выдержал, звука не подал. И так около часа они забавлялися, говорит, думал, что к дьяволам в преисподнюю попал, в особенности как нарубили они и сложили все трупы в одну кучу, там голова валяется, там полруки, а там туловище, весь пол красным стал от крови, а они смеются по-звериному, ругаются бог знает как! Ходят, пошатываясь, будто пьяные, а руки как в красные перчатки одетые. Потом комиссар взобрался на кучу эту и вдруг обращается ко мне: «Ты все видел? Так когда пойдешь обратно, расскажи всем, как с контрреволюционерами расправляемся». Вот, милые, что было, сам потом нам рассказывал — ведь своими глазами все видел, а на другой день трясти его начало, бредил и всякие страсти выкрикивал, пока не вынесли его куда-то», — закончил рассказчик.
Всем жутко стало, и мое настроение спокойное исчезать начало. «Да это что, — добавляет рассказчик, как будто наслаждаясь нашим молчанием, — а то в Харьковской ЧК было — напьются они, нанюхаются кокаином и начнут потешаться над жертвами своими. И думаешь иногда, что не может того человек обыкновенный сделать — ибо муки и истязания, ими придуманные, не от человеческого ума исходят, чьим-то неземным разумом они внушены им. И веет от этих безумств сатанинских силою того начала, которое назвал Христос одним словом — Велиезувол. Разве это не так? Я знаю, когда в подвалах ЧК распинали на кресте, забивали под ногти заостренные деревянные колышки, сажали в бочку с вбитыми внутрь гвоздями, наглухо заколачивали и со смехом и криком, заглушавшими даже нечеловеческие вопли внутри сидящего, катали по полу до тех пор, пока несчастная жертва не начинала хрипеть и, наконец, совершенно замолкала. Что это? Больше скажу: есть чекисты, которые за свою двухлетнюю службу дошли до того, что пьют человеческую кровь!!. Разве это не от диавола?»
«Фу!! Да перестаньте вы ужасы всякие рассказывать! И без того не сладко», — сказал чей-то голос из темноты. Страшно! Страшно! Этого бесконечного долгого ожидания! Ожидания неизвестности… «Тук… тук… тук…» — стучит в висках. Вдруг зевать нервно начинаю, несколько раз подряд, и чем дальше, тем сильнее, скулы трещать начинают, а всё не могу окончить… Слышны спускающиеся шаги по лестнице. «Что-то будет?! Кого? Кого?» — долбит неотвязчиво в голове эта мысль. Вот они совсем близко, слышен разговор возле самой двери… Захватывает дух, начинаю шептать бессвязную молитву: «Только бы не меня, Господи! Господи, дай еще немного пожить! Сделай так, чтоб другого», — а внутри холодно стало… «Господи! Господи!»
Открывается дверь, и падает луч дневного света, кого-то вталкивают и снова уходят. Неизвестный долго стоит и разобраться не может после света в темноте подвальной. «Сюда!» — говорю я. «А тут уже есть!» — отвечает хриплым голосом прибывший и садится возле. «Вы откудова?» — обращаюсь к нему я, — молчит. «Что не отвечаете, я к вам?» — молчит. «Ну, черт с тобой!» — думаю я и вытягиваю ноги, совершенно задеревеневшие от долгого неудобного сидения. Как хочется есть! Вот уже вторые сутки, как во рту маковой росинки не было, и все уходит на второй план и остается одно животное желание есть… Есть — сейчас бы целую массу съел…
Обращаюсь в пространство: «Кормить-то нас будут или нет?» «А зачем? — раздается голос рассказчика, — все одно этой ночью в расход пустят». Я подумал, как это он спокойно говорит, а впрочем, ведь он прав, зачем в самом деле есть, когда конец так близок и так неизбежен. Снова клонит ко сну, начинаю дремать — мысли совершенно уходят из головы, остается какой-то сумбур и сплошной прах — голова склонилась как неприкрепленная, и я заснул. Не знаю, долго ли я спал или нет, но проснувшись, почувствовал себя бодрее и долго не мог ничего понять, даже в карман за табаком полез. И вдруг сразу всё сообразил, и снова холод и голод, и эту безумную нечеловеческую усталость почувствовал. «Идут!» — не сказал, а скорее прошептал чей-то голос…
Вошли с фонарем, и держал фонарь и лист бумаги все тот же самый вчерашний мужик в полушубке: «Ну, подымайся! Второй, четвертый… трина… — я закрыл глаза, затаил дыхание, — …дцатый, — как будто топором отрубили. — Выходи!» Мы поодиночке прошли мимо фонаря и начали выходить за дверь… Тут были три вооруженных, со взятыми наизготовку винтовками, человека. Было темно. Морозно… Чувствовалась бодрящая свежесть, на ступеньках лежал снег. Начали медленно, два впереди, а я сзади, окруженные часовыми, подыматься кверху… Чувствую, как во рту стучат зубы, как будто на барабане мелкую дробь отбивают, холодно… Широкий двор, вправо большая казарменная постройка, впереди налево какое-то темное углубление, ясно выделяющееся среди общей снежной белизны.
На небе горели и переливались маленькие звездочки, под ногами скрипел замороженный снег и как-то странно подбрасывался и рассыпался из-под каблука идущего впереди меня «рассказчика». Идем по направлению к углублению, видно несколько больших деревьев и взрытая свежая морозная земля. «А река — Салгир! — соображаю я. — Вот тут под откосом конец! Да сейчас, — мысленно прикидываю в голове, — ну шагов 30–40, не больше, а значит, 2–3, ну от силы 5 минут и баста! Не будет еще трех в живых» — ноги начинают подкашиваться, и я чувствую, как они примерзают к снегу и становятся все более и более неподвижными, как будто наполнили их огромной тяжестью так, что нет возможности идти дальше… Я начинаю отставать, потом останавливаюсь, чтобы перевести дух… Хочется сесть, чтобы уже не двигаться… Хочется припасть к этому дразнящему холодному снегу и глотать его и… «Ну что стал, черт?!» — я умоляюще смотрю на конвойного. «Передохнуть! Минуточку, капельку!» — шепчу пересохшими губами…
Вдруг случилось что-то странное, невероятное, как-то сразу весь двор и это углубление, и деревья, и спины идущих впереди осветились красным огромным светом. Все даже приостановились: «Глянь, Яша! Не наш ли горит?» — остановились, смотрят в сторону, вправо. «Бежать!» — как молнией, сверкнуло в голове. «Бежать!» — до невероятности простое и до безумия неисполнимое огромное желание. Ээх!! — не то крикнул, не то прорычал и… Снег… лед… холодная вода… «Бух!! Тррах! Взжжи! Взжжи!» — прожужжали пули… Берег! Снова «бух! взжи… взжи…» — возле самого уха. Яма… Забор… и улица, не знаю куда, как, ничего не чувствуя и не соображая, подгоняемый всеохватившей мыслью вперед, мыслью вырвавшегося из самых когтей смерти человека- я бежал, бежал… Кончился город — белое поле, освещаемое красным заревом пожара, а впереди чуть заметные горы — спасительные горы!..
3 апреля 1921 г., г. Константинополь. |