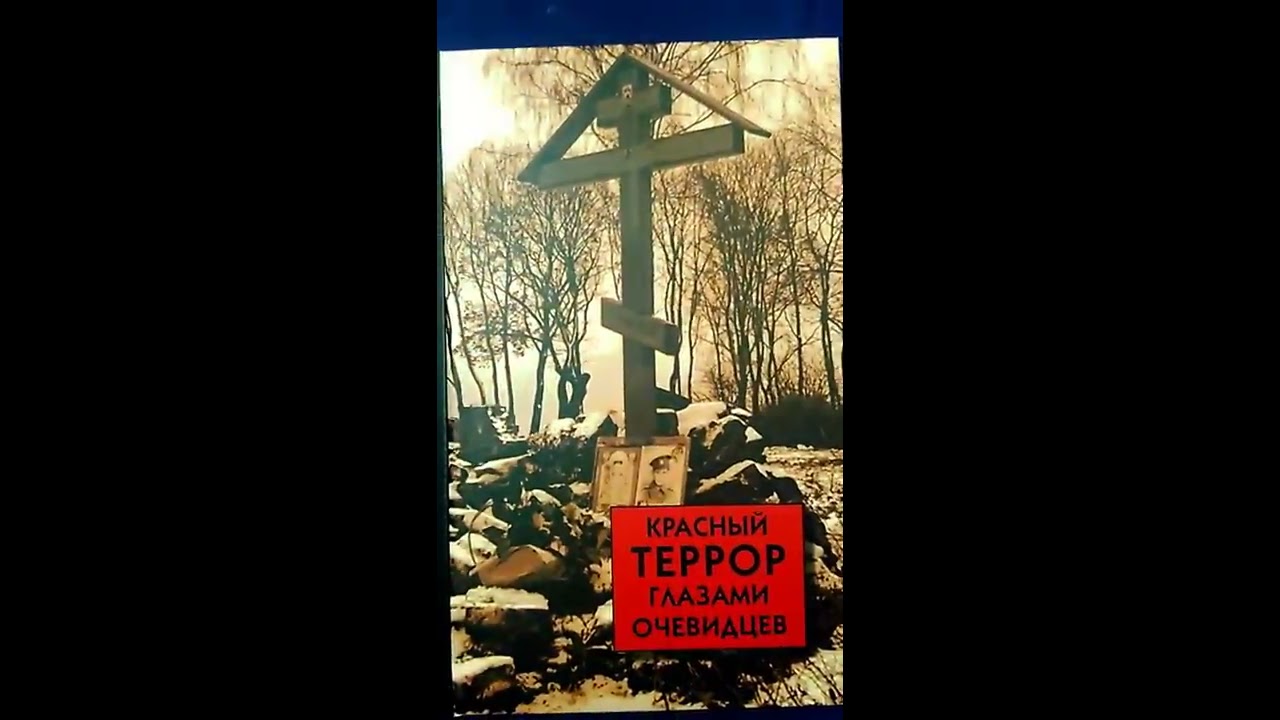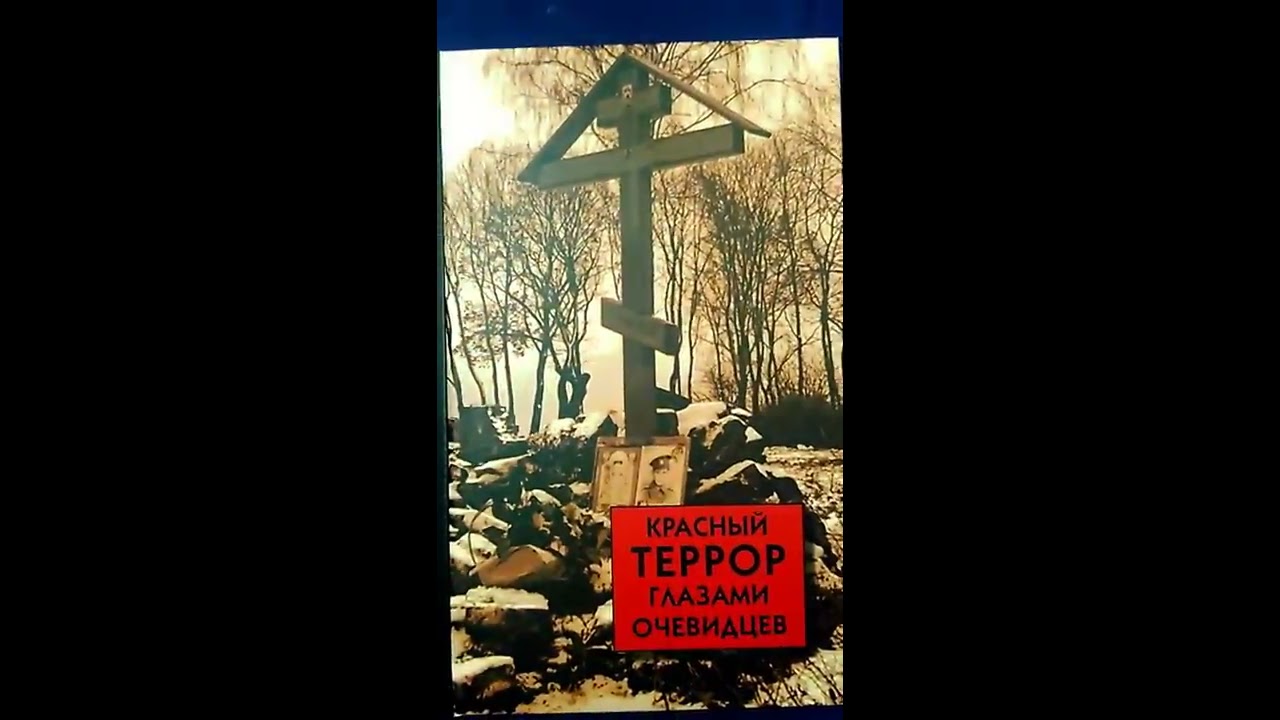
31 декабря 1918 г.
Сегодня канун Нового Года, какой печальный для нас всех. В городе страшная паника. Слухи о приближающейся красной армии встревожили всех. Из имений всё устремилось в город. Поезда один за другим уходят, увозя несчастных беженцев. Последние части немецкой оккупационной армии ушли утром. Немецких солдат почти не видно. Так называемая «Железная дивизия»[171] частью тоже ушла, меньшая часть еще вместе с ландвером[172] на фронте. Перед уходом немецких частей можно было часто видеть на улицах, как немецкие солдаты продавали свои ружья латышам. Пока еще один Балтийский ландвер частью на фронте, частью в городе старается поддержать порядок. С приближением внешнего врага и внутренние большевики подняли головы. В казармах взбунтовалась целая латышская часть ландвера. Она была усмирена по требованию английского адмирала Нельсона временным латышским правительством. Расстреляно десять зачинщиков. Два английских крейсера еще находятся в Рижском порту; латышское временное правительство тоже пока еще в городе.
В четыре часа дня везде в городе появились расклеенные объявления за подписью адмирала Н. и латышского временного правительства о том, что слухи о приближении к Риге целой красной армии лишены всякого основания; те небольшие отряды, которые замечены были в различных местах, суть не что иное, как отдельные разбойничьи банды, которые частью рассеяны, частью уничтожены нашими храбрыми добровольцами. В заключении английский адмирал обещает населению полную безопасность, ссылаясь на присутствие английских кораблей. Население ожило, и многие, имевшие билеты на пароходы, вернули их или переуступили, решив, что, пожалуй, паника преждевременна и, как всегда, у страха глаза велики. Я лично думаю, что дни Риги сочтены. Мои belles-soeurs[173] со всеми детьми уже три дня как покинули город и уехали в Германию, мужья их пока в ландвере.
Мужа[174] в последние дни почти не вижу, он завален работой. В те короткие промежутки свободного от занятий времени, когда мы видимся и успеваем друг другу сказать несколько слов, я еще больше убеждаюсь, что Рига будет взята большевиками. К счастью, вопрос, куда я денусь с Люшей в случае ухода мужа с ландвером, вчера благополучно разрешился. Предложили место сестры милосердия к хирургической больной. Люша останется при мне, а мое жалованье идет в счет его содержания. Семья симпатичная, состоит из двух пожилых, моей больной и ее тетки, и двух братьев-старичков С., помещиков и соседей по имению, живущих у них. Таким образом, я буду в семье, и одиночество в чужом мне городе не будет так заметно.
Вчера произошло еще одно событие: Б. М. сделал Дэзи предложение. Они уже давно любят друг друга, и теперь, когда Д. овдовела, ничто не препятствует их браку. Мать его, обожающая его, как старшего и единственного сына, относится к их браку не сочувственно. Конечно, она желала бы для сына чистокровную немку, Д. же только по матери имеет немецкую кровь, кроме того, родилась и воспитана в Петрограде.
Главное, они счастливы, дико счастливы! Несмотря на все просьбы Б., чтоб она бежала с его матерью за границу, Д. не согласилась, говоря, что не может оставить своего десятилетнего брата и, не имея средств ехать с ним, не желает жить на счет его семьи. Б. пришлось покориться. Решено, что она остается сестрою в частной клинике, где она и сейчас работает. В 10 ч. они заехали за мною, и, несмотря на все мое нежеланье видеть людей и быть сегодня в обществе, я не могла отказать этой счастливой милой паре принять тоже участие во встрече Нового Года.
Когда мы приехали в Hotel de Rome, было уже довольно поздно и все общество было в сборе. Речь шла, конечно, о событиях последних дней, о слухах с фронта. Настроение преобладало, как это и не удивительно, оптимистическое — может быть, под влиянием вина. Мне невольно пришло сравнение «Пир во время чумы». Мать Б. тоже приехала с дочерью. Мы заняли отдельный столик, за которым, кроме нас всех, сидела еще молодая чета Б. Наша сияющая счастливая парочка заставила нас действительно забыть суровую действительность. Она была общим предметом внимания, и поздравления и пожелания сыпались на нее со всех сторон. Всё общество поджидало начальника ландвера, который обещал приехать; от него надеялись узнать, в каком положении наши дела на фронте. За десять минут до полуночи он появился в зале в сопровождении начальника штаба и адъютанта. Все общество шумно приветствовало его, со всех сторон посыпались вопросы. «Что на фронте? Справедливы ли слухи о прорыве? Действительно ли уходит из Риги ландвер?» — «Я извиняюсь, что опоздал, — раздался его спокойный голос, — дел много, через четверть часа принужден покинуть ваше любезное общество, присутствующих здесь господ офицеров прошу также прибыть в штаб, так как есть срочные вопросы. Господа, было бы легкомысленно с моей стороны утверждать, что всё обстоит великолепно. Положение серьезно и весьма серьезно; с нашей стороны делается всё, что возможно, но если вы меня спрашиваете совета, то я вам отвечу: береженого и Бог бережет. Кто в состоянии отправить семью в более безопасное место, обязан это сделать для собственного спокойствия и свободы действий. Относительно ландвера слухи неосновательны. Он до конца исполнит свой долг и если уйдет, то, конечно, последним. Господа, не будем портить себе встречу Нового Года всевозможными предположениями… Вот, кстати, и вино. Позвольте пожелать всем здесь присутствующим благополучного Нового Года». «А ландверу — побед», — раздалось со всех сторон. Он особенно сердечно поздравил Б. и его невесту. Лицо его на минуту совсем прояснилось при взгляде на их счастливые лица. После взаимных поздравлений общество разбилось на отдельные группы. Н. В. одна вносила дисгармонию в наш несколько оживившийся кружок. Она была очень нервна, и мы не узнавали сегодня в ней обычно беззаботной кокетливой женщины. Она поминутно обращалась к мужу с вопросом: «Что же надо делать, папочка?» — «Ах, все это не так страшно, Ниночка; мне, например, гораздо важнее обещание английского адмирала, чем все советы начальника ландвера. Англичане — народ обстоятельный, и если адмирал заявляет, что нет опасности, то поверь, что это так и есть». — «Мне кажется, вы придаете слишком большое значение обещаниям английского адмирала, — холодно возразил Б. — Я должен вас разочаровать: наше славное временное правительство уже два часа тому назад покинуло Ригу, направляясь к Либаве, а английские крейсера стоят уже под парами и тоже верно не замедлят покинуть порт». — «Простите, но этого не может быть! Вы, как немец, не любите англичан и относитесь к ним пристрастно, но Вы не можете не признать, что это величайшие политики в мире». — «Во-первых, я не вижу, за что я их должен любить, — а на счет политики, простите, я такую политику уважать не могу». Разговор шел еще некоторое время на эту тему, когда мать Б. к общему удовольствию прервала его замечанием, что, кажется, пора по домам. Начался разъезд. Усадив мать и сестру в сани, Б. проводил Д. В. и меня, так как мы все живем в одном доме.
1 января.
Слухи с фронта очень тревожные: небольшая часть ландвера наскочила на большие силы неприятеля. Есть убитые и очень много раненых, последних сейчас эвакуируют дальше. Улицы запружены обозами, повозками, кухнями, все это тянется по направлению к Двине. Сегодня ушло несколько пароходов с беженцами. Сомнения нет, Рига обречена! Английские крейсера еще в порту, английский адмирал продолжает обещать населению полную безопасность. И есть еще дураки, которые верят! Еще никто не говорит об уходе ландвера, но разве это не ясно, что не сегодня-завтра он оставит город! Дорога к Риге свободна, и большевики не замедлят явиться.
К пяти часам, как было вчера условлено, мы собрались к чаю у Дэзи; в ее уютных двух комнатах было все очень мило устроено. Будущая belle-mere[175] с дочерью тоже присутствовала. Кроме меня с мужем и четы С., никого больше не было. Еще раз поздравив жениха и невесту и выпив по бокалу шампанского, мы все довольно скоро ушли, предоставив их друг другу, так как уже через два часа Б. должен был ехать на фронт с каким-то поручением. Завтра уезжает его мать и сестра за границу. Решено окончательно, что мы с Дэзи и детьми остаемся в Риге. Его мать и не очень настаивала, чтобы Д. с братом уехали с ними, находя, по-видимому, это совершенно естественным. Эгоизм этих людей для меня нечто новое!
2 января.
Сегодня ушел последний поезд из Риги. С ним уехали мать и сестра Б. Мы с Д. провожали их. Б. удалось их сравнительно хорошо устроить, они могли сидеть. На вокзале было невообразимое столпотворение. Платформа была завалена всякого рода вещами. С трудом можно было продвигаться вперед. Люди буквально давили друг друга, чтобы попасть в поезд. Прощания уезжающих с остающимися были душераздирающими. Вот с повязанной головой и рукой на перевязи юный воин в третий раз поднимается на ступеньки, чтоб проститься с поджидающей на платформе вагона матерью, и каждый раз принужден отступить перед нажимающей со всех сторон публикой. Так им, кажется, не удалось проститься. Люди сидели, стояли, висели на крыше, на ступеньках, на буферах. Как они доедут живыми при 18 гр. мороза — одному Богу известно. Б. простился раньше со своими и уехал, торопясь к своей части. Теперь уже не секрет, через несколько часов ландвер оставляет Ригу, должен сделать это поспешно, так как неприятель быстро приближается и может каждую минуту преградить ему путь отступления. Когда мы с Д. возвращались с вокзала, был уже второй час; пошли пешком; шли молча, каждая занятая своими мыслями, и невеселы были эти мысли! Через два часа уйдет ландвер, и тогда мы останемся совсем одни в чужом городе, среди чужих, безразличных людей… на произвол приближающейся дикой орды… Мы зашли за детьми и направились к Двине, где уже был выстроен ландвер, готовый к походу. Картина, представившаяся нашим глазам, была волшебной красоты. Слева громадное здание семинарии с золотыми куполами, рядом сквер, покрытый белым пушистым инеем, как сказочный сад выделялся на ярко-красном фоне неба, вдоль него тянулась бесконечная лента выстроенного ландвера. В стороне уже стояла довольно большая группа людей, состоящая большею частью из матерей и жен, остающихся в городе и пришедших в надежде еще раз, может быть в последний, увидеть своих дорогих. Стоящие часовые не пропускали за цепь, но время от времени из строя отделялся юный воин, заметив в группе стоявших знакомое дорогое лицо, подбегал и, простившись, быстро возвращался на место. Наших еще не было видно. Все время непрерывно раздавались взрывы. Очевидно, взрывали остающиеся орудия и пулеметы. Мы стояли уже больше часу. Становилось невыносимо холодно. Недалеко от нас стояла небольшая кучка каких-то оборванцев, тихо между собою разговаривающих и злорадно поглядывающих в нашу сторону. Наши будущие власти, подумала я. Очевидно, и Д. неприятно поразила эта кучка людей, она мне кивнула в их сторону и тихо сказала: «Вот в чьей власти мы остаемся». Дети начали жаловаться на холод. Но вот у выхода засуетились. Из главного здания быстро вышло начальство, как-то торопясь, пошло по фронту, и после короткой речи, которую мы разобрать не могли, раздалась команда. Ряды стройно задвигались и двинулись по направлению Торенсберга. В последний момент уже к нам подбежали муж и Б. и, быстро простившись с нами и детьми, пошли догонять уходившие части. Это был короткий момент, где один взгляд, одно рукопожатие сказали больше, чем самые красноречивые слова. Вот и последний ряд завернул за угол здания, через момент все скрылось с наших глаз. Среди оставшихся плакали. Дэзи взяла меня молча под руку: бедняга едва сдерживала рыдания, я тоже боролась со слезами. Мы тихо пошли через сквер. Дети, притихшие и печальные, следовали за нами. Когда мы проходили мимо стоявшей кучки оборванцев, раздались насмешливые замечания: «Своих фрицев провожали».
10 часов вечера.
Какое жуткое чувство неизвестности! Всё время слышны выстрелы. С улицы доносятся крики и езда. Люша давно спит крепким сном. Счастливый возраст! Он спит в комнате бар. М. - я рядом с больной. Славная М. - приняла на себя все мои обязанности. Я так счастлива, что он со мною. Моя больная оказалась симпатичной старушкой. Обоюдное одиночество способствовало скорейшему нашему сближению. Ее обе дочери с мужьями и сын с семьей вчера тоже уехали.
Сейчас мы все, кроме больной, сидим в гостиной. Оба старика бодрятся, заняты раскладыванием пасьянса. В. М., по обыкновению, вяжет в углу дивана, а я пишу, вернее, сижу и ничего не делаю. Отсутствую, — миллион всяких мыслей и ничего определенного. Горничная Юлия вносит чай и прерывающимся голосом рассказывает, что в городе грабят лавки и убивают. Чернь подожгла интендантские склады и громит их. Я отдернула тяжелую портьеру с окна. Небо было залито заревом пожара. На дворе было светло как днем. К сожалению, наши окна выходили во двор, и что происходило на улице, нам не было видно. Какая ужасная ночь и что ждет еще впереди!.. Когда прислуга убрала посуду и ушла к себе, — мы принялись с М. убирать всё серебро в огромную кушетку, на которой я спала в комнате больной. Это была нелегкая работа, пришлось отрывать, а потом опять прибивать полотно снизу. Бриллианты и золотые вещи замотали в клубки шерсти. Деньги и ценные бумаги тоже искусно спрятали в центральное отопление. Больная тоже помогала нам заворачивать вещи в бумагу. Я рада была этой работе; она отвлекала от тяжелых гнетущих мыслей. Старики тоже не решались ложиться и, сидя в углу, курили свои трубки, изредка перекидываясь словом. Мы только что закончили свою работу, когда вдруг в передней раздался слабый звонок; все невольно вздрогнули. Я вышла узнать, в чем дело. В дверях стояла Марихен снизу от В. (бонна сына). «Ради Бога, барон Н. К. просит вас на минуточку вниз». Зная, что муж Н. должен был тоже уйти с ландвером, несмотря на всю свою веру в английского адмирала и обстоятельность английского народа, я решила, что Н. испугалась, наверное, одиночества и, успокоив своих стариков, которые просили не засиживаться, спустилась вниз.
Каково было мое удивление, столкнувшись в дверях гостиной с самим хозяином и его другом С. Н. еще в военных пальто и фуражках. «Разве ландвер…» — начала я, но В. поторопился меня успокоить: «Он благополучно отбыл из Торенсберга, я в последний момент выскочил из поезда и вернулся назад. Мысль, что жена с ребенком одни в чужом городе, не давала мне покою». — «Но ведь это безумие, вы еще больше ухудшаете ее положение своим присутствием; о Вас я уже не говорю». — «Да вот и он, — указал В. на приятеля, — тоже вернулся». — «Да, что я, я вернулся за компанию, у меня ведь тоже есть жена и сын». — «Я умру, умру от одного страха за Вас», — пищала Н., прижимаясь к плечу мужа. «Как же быть, здесь же Вам оставаться нельзя, завтра пойдут, наверно, обыски». Он сказал, что они пришли только успокоить жену и, переодевшись в штатское, сейчас уйдут к его приятельнице, старушке-сапожнице, которая их и укроет на время обысков. «Будьте милая, баронесса, и выпустите нас только на улицу, чтоб в доме никто не видел». Через десять минут они были готовы, и я их благополучно выпустила. Улица была полна бегущего народа: мужчины, женщины, дети тащили на санях и на плечах ящики, мешки, кули, очевидно награбленные в горевших складах. Зарево пожара освещало каким-то зловещим красным светом эту необычайную ночную картину. Подождав, пока они благополучно перебрались на другую сторону, я едва успела закрыть дверь, как из швейцарской выглянула швейцариха и, увидав меня, вышла из своего подполья: «Боже, откуда Вы так поздно, сестрица, в такую ночь-то? Видели объявление у наших ворот. Смерть немцам, изменникам, а у нас, поди, все квартиры почти баронские». Она дрожала как в лихорадке. «Ничего, Бог поможет, идите лучше спать, Берзинг». — «Какой тут сон, каждую минуту ждешь, вот-вот позвонят. Уже днем сегодня говорили на улицах, что ночью будут ходить по квартирам искать виновников». Пожелав ей еще спокойной ночи, я поторопилась наверх, где меня ждали в большом волнении старики. Рассказав им всё, уговорила их ложиться спать. Сама же, не раздеваясь, прилегла в гостиной на диване. Зарево ярко освещало комнату. Я долго не могла заснуть. Самые ужасные картины рисовались возбужденному воображению, но, в конце концов, усталость взяла свое, и я крепко заснула.
3 января.
Ночью английские крейсера покинули порт. Утром разбудила меня М., сообщив, что уже во многих домах по Елисаветинской идут обыски и аресты. Она протянула мне летучий листок вместо газеты, где в бесконечных столбцах следовали всевозможные декреты советского правительства за подписью «Штучко».[176] Да, ничего хорошего не обещает нам эта «Штучка». Первый декрет, напечатанный жирным шрифтом, гласил о сдаче оружия в двухдневный срок под страхом смертной казни. У нас в квартире находилось несколько ружей, оставшихся после уехавших внуков и сына. Решено было единогласно всё отослать по указанному адресу.
После завтрака мне пришлось сходить относительно моей больной к доктору. Улиц не узнать, они полны исключительно чернью. Все вооружены, не исключая женщин и подростков. На извозчиках поминутно проезжают какие-то пьяные типы с ружьями на взводе, раскачиваясь во все стороны и на всю улицу горланя: «Смерть Фрицам и их укрывателям!» При их приближении толпа разбегается в стороны. Дойдя до Вейдендамма, пришлось остановиться, со всех сторон бежала толпа. Раздался неистовый крик удовольствия, со стороны Вейдендамма показалась конница красной армии. По-видимому, она вступала в город. Чернь восторженно приветствовала большевиков. Люди и лошади были в довольно хорошем виде. Солдаты в шинелях и серых меховых шапках. Подростки и бабы, приплясывая, стреляли в воздух, выражая этим полный восторг. Когда же за конницей показались латышские стрелки, восторгу не было границ; толпа неистово ревела, раздался латышский гимн. Кое-как пробравшись между двумя проходившими частями на другую сторону и с трудом подвигаясь в толпе, я на углу следующей улицы столкнулась с душераздирающей процессией: два совсем молодых русских офицера в полушубках, один без фуражки с разрубленной щекой, из которой ручьем текла кровь, с ними еще два немецких солдата в вицмундирах без фуражек шли под конвоем вооруженных латышей; они шли молча с опущенными головами, очень бледные, но спокойно. «Куда их ведут?» — невольно спросила я. Отвратительного вида женщина, усмехаясь, ответила мне: «Известно, сестрица, куда!» Я непроизвольно двинулась за ними, один из сопровождавших латышей, заметя меня, пригрозил ружьем. На мой вопрос, что с ними хотят сделать, он приложился к ружью. Боже, какая жестокость, возможно ли! Не успели они еще пройти и пятидесяти шагов, подошли как раз к скверику, через который мы вчера с Дэзи возвращались, как их всех четверых выстроили, раздались выстрелы — и тела их тяжело опустились на снег. Крик ужаса замер у меня на губах. Колени до того дрожали, что я принуждена была опуститься на ближайшую скамью. Вот он красный террор!
4 января.
Обыски и аресты идут во всем городе. Сегодня арестованы Ф., отец совершенно больной 68-летний старик и его сын и много других, их под конвоем уводят в тюрьму. Сегодня неоднократно можно было встретить такие процессии.
7 января.
Возвращаясь домой, в воротах встретила человек шесть вооруженных латышей, выходивших из нашего дома, — перепуганная швейцариха шепнула мне, что был обыск в обеих квартирах четвертого этажа (под нами), причем обе семьи выселяются и обязаны до вечера оставить свои квартиры, не смея ничего взять из мебели или вещей, кроме смены белья и небольшого количества съестных припасов. Потом я была свидетельницей, как эти несчастные люди с детьми всех возрастов и скудными узелками в руках покидали свои жилища. Со старой 90-летней бабушкой, которую несли на руках, сделалось дурно. Обе семьи были многочисленны и совсем не состоятельны: одна — пастора, другая — учителя. Теперь, верно, скоро и за нами очередь! Вечером водворились новые квартиранты — члены какой-то коммунистической организации. Праздновали ли они свое новоселье или взятие Риги, но, по-видимому, у них шел пир горой. Пьяными голосами орали какие-то дикие песни, немилосердно колотили по роялю. Играла гармоника, под которую танцевали; у нас в квартире буквально всё тряслось и прыгало. Слышен был шум опрокидываемых стульев, неистовые крики «ура», звон разбиваемой посуды, порой дикие взвизгивания женщин.
В пятом часу весь скандал перенесся на лестницу. Коммунисты выставляли вон своих дам, которые пьяными голосами кричали и ругались. Мы всю ночь так и не сомкнули глаз. В шестом часу наконец всё в доме затихло.
9 января.
Газеты принесли весть о взятии Митавы большевиками. Взрыв порохового погреба был слышен в Риге. Сегодня обнаружилось очень неприятное обстоятельство, а именно: горничная Юлия со слезами сообщила мне, что вчера во время обыска верхних квартир были также наложены печати на все чердачные отделения, причем, уходя, солдаты сказали, что в случае завтра на одном из отделений окажется спрятанным оружие, вся соответствующая квартира будет расстреляна до последнего человека. Я сначала не могла понять ее волнения, так как знала, что все ружья были отосланы М., но тут выяснилось, что два ружья племянника, они с М. отнесли на свое чердачное отделение и закопали под ящиками и всяким мусором. Ясно, что завтра их найдут и тогда никому несдобровать, а что еще хуже, это то, что Эмма — кухарка, кажется, обо всем догадывается и уж из одного страха может донести. По словам Юлии, достать ружья нет никакой возможности, и она решила сегодня же еще вечером уйти от господ, у которых прослужила 20 лет. Обещав ей всё уладить, я вошла в комнату больной. Все старики были в сборе, волновались и не знали что делать. Увидав меня, закричали: «Слышали?» — «Что же делать, надо попробовать достать их». — «Да ведь это невозможно! Вы не знаете нашего чердака». В конце концов, было решено отослать после обеда обеих кухонных донн с поручениями. Юлия должна была стать на страже на лестнице у кухни, а М. идти со мною на чердак, где я хотела попробовать перелезть в промежуток между решетчатой стеной и крышей. Задача была нелегкая и в том отношении, что всё время по лестнице поднимались какие-то субъекты в квартиру коммунистов. Нужно было улучить момент, чтобы незаметно проскочить на чердак. Раза два пришлось отступить в кухню, так как по лестнице то спускались, то поднимались какие-то типы. Наконец-таки проскочили. Взобраться по тонкой решетчатой высокой стенке была далеко нелегкая задача. Пришлось призвать на помощь всё свое искусство молодых лет и побиться добрых полчаса, пока я с большими усилиями добралась наконец доверху, каждую секунду ожидая, что сорвусь и упаду вместе со стенкой, которая буквально раскачивалась подо мной во все стороны. Но в тот момент, когда я уже была наверху, мы услышали голоса, шаги, ключ в замке повернулся. М. едва успела задуть свечу и спрятаться в углу за бочку, а я замерла в своем поднебесье, балансируя во все стороны, чтобы как-нибудь сохранить равновесие. Дверь открылась, и на чердак вошли девушка в сопровождении солдата с корзиной; весело болтая по-латышски, они принялись снимать белье на общем чердаке. Беседа их, к моему ужасу, затянулась бы, очевидно, значительно дольше, если бы не слишком решительный маневр кавалера, вздумавшего ее поцеловать, после чего она, к моему величайшему удовольствию, поторопилась оставить чердак. Ее рыцарь последовал покорно за ней. В углу мелькнул огонек, и из-за бочки показалось испуганное и всё перемазанное лицо М. Вид ее был до того комичен, что, несмотря на весь ужас нашего положения, я не могла удержаться от смеха, причем потеряла равновесие и скользнула вниз по стенке, упав на что-то мягкое и очень пыльное, оказавшееся старым сломанным диваном. За решеткой раздался испуганный голос М.: «Вы не ушиблись?» — «Нет, наоборот!» Немного придя в себя, я отыскала, по указанию М., ружья и, укрепив их себе на спине, тем же путем благополучно вернулась обратно. М. со слезами бросилась мне на шею. Радость стариков и Юлии была безгранична, но теперь предстоял вопрос — куда их деть? Каждую минуту могли явиться с обыском.
Разобрав их, завернув в бумагу и положив в портплэд, куда еще сверху положила несколько поленьев, я вышла, когда немного стемнело, со своей страшной ношей на улицу, направляясь к дому № 3, бывшей квартире моего beau-frere; теперь весь дом был занят военной организацией по продовольствию войск. Там, во дворе, очень темном, я и хотела сбросить их в погреб. На первом углу меня патруль пропустил, но на следующем подошел и спросил, что я несу. На мое счастье, это был русский! «Немного дров», — ответила я. Он взялся рукой за ношу и, ощупав полено, пропустил со словами: «Идите, сестрица, с Богом». Фу, как сердце бьется, только бы добраться благополучно до ворот; на мое счастье — ни души на улице, вот и ворота, еще момент и я была во дворе, где без труда достигла погреба и, отделавшись от своей ноши, благополучно вернулась к беспокоившимся за меня старичкам.
10 января.
Зашла к Д., но не застала, узнала от Саши, что она почти безвыходно в клинике, он видит ее очень редко. Сегодня торжественные похороны «жертв немецкого произвола» — так гласит громадная надпись на первой странице сегодняшней газеты. Из десяти расстрелянных латышским временным правительством зачинщиков бунта в латышской роте их оказалось теперь двадцать семь. К тем десяти были присоединены все убитые в ночь пожара при ограблении складов. Все трупы были зверски изуродованы большевиками с целью, конечно, еще больше восстановить чернь против немецких имущих классов. Все двадцать семь гробов были выставлены для обозрения зверств «белого террора». Похороны были торжественные, с музыкой, военным парадом, речами, депутациями, чуть не до грудных детей, с огромными плакатами и вызывающими надписями. Город разукрасился красными и черными флагами. Для этой цели было окрашено в красный и черный цвет все национализированное великолепное столовое и постельное белье в частных домах. Сам «Штучка», одетый с иголочки, живописно жестикулируя, стоял в автомобиле и говорил очень убедительно и очень понятно для черни: «Борцы за свободу лежат пред нами убитые, мало — замученные ненавистниками свободы, палачами народа; они пали жертвами немецкого произвола. Товарищи! Мы будем недостойны этой свободы, если не отомстим за них. Да, товарищи, за каждого убитого большевика — сто немцев!» Раздались аплодисменты и возгласы: «Правильно». Конечно, это было во вкусе «свободного народа». Результатом будут, несомненно, новые аресты, новые жестокости. Наконец, жертвы произвола были опущены в общую могилу под звуки музыки и пения на Соборной площади, которая теперь переименована в «площадь коммунистов». Вскоре над могилой поднялся высокий холм из цветов, венков и лент с самыми потрясающими надписями. Вечером в городе было большое гулянье. Улицы все были запружены латышскими стрелками с их дамами в экспроприированных нарядах «с чужого плеча». Так закончился этот славный день в истории большевиков!..
14 января.
Утром получила записку от В. снизу — непременно прийти сегодня вечером к ним, но так, чтоб никто из «подозрительных» 4-го этажа не видел. В. я тоже не видала с той памятной ночи. Сейчас после ужина я спустилась к ним; они еще сидели за столом. Кроме них и С. Н., сидел еще, я бы сказала, подозрительного вида субъект. Видя мое замешательство, В. встал мне навстречу и громко сказал: «Баронесса, Вы можете свободно говорить обо всем, мы в дружеском кружке». Ну, что касается меня, я бы охотно отказалась от дружбы с этим типом. «Позвольте вам представить большевика О…» — Н. сидела тоже нарядная и сияющая, как в добрые старые времена. — «Да, баронесса, — весело поздоровалась она со мной, — мой муж тоже большевик, наконец-то кончились эти ужасные дни пытки, но вы ведь ничего не знаете! Э, расскажи же всё». Ее муж рассказал, как после восьми дней пытки по чужим холодным чердакам и погребам, они наконец решили с С. Н. выйти на улицу, готовые на всё, как случайно встретили старого петроградского приятеля — офицера, как во всем ему признались и как чрез него «личного друга Штучки» В. получил место в морском министерстве с жалованьем в 1000 р. в месяц, обеспечил квартиру от обысков и получает продовольствие на всю семью, надеется и друга своего С. Н. туда пристроить. «Вы меня осуждаете, баронесса!» — заключил он свой рассказ. — «Нет, я стараюсь вдуматься в Вас и думаю, что роль Ваша нелегкая будет, дай Бог и сыграть ее благополучно до конца. Значит, Вы теперь «редиска»», — пошутила я. Они все очень смеялись моей шутке. С этой минуты эта кличка за ним осталась. При прощании, однако, было решено реже видеться и незаметно от верхних коммунистов.
16 января.
После двухнедельного исчезновения сегодня в первый раз зашла ко мне Д.; она была необыкновенно бледна, и рот ее поддергивался, как у маленького ребенка, готового заплакать. Мы прошли в комнату М.; тяжело опустившись в кресло и устало положив голову на руки, она сказала: «Боже, с чего начать, всё так ужасно! Знаешь, сегодня скончался в больнице от тифа мой двоюродный брат Рольф». Потом она рассказала, как, узнав через тюремного врача, что он в тюрьме и очень болен, она выхлопотала с большими трудностями у комиссара разрешение на его перевоз в больницу; в каком ужасно жалком положении она его нашла в маленькой камере, в которой находились 20 заключенных; не хватало коек, спали по двое, остальные ютились на мокром, грязном полу. В углу стояло ведро, отравляющее и без того уже тяжелый воздух камеры. Рольф лежал в полубредовом состоянии, умоляя кого-то все время вырвать его из этого ада. Дэзи присела около него в ожидании сторожей с носилками, стараясь успокоить его видом полученного письменного разрешения, но он уже неясно сознавал, что вокруг него происходит. В это время в камеру вместо ожидаемых сторожей, вошли четыре женщины-латышки с ружьями. «Сколько вас здесь», — спросила первая вошедшая, еще совсем молодая девушка в огромной черной шляпе со страусовыми перьями, модном, коротком бархатном костюме и ажурных чулках. Было что-то неприятное в ее довольно красивом лице. Получив ответ, она с усмешкой заметила: «Ну, пора очистить квартиру для новых жильцов. А что же этот?» — указала она ружьем на лежавшего под шинелью Рольфа. Дэзи ответила, что это очень больной. «Ну, тем лучше, нам работы меньше». Она прошла дальше. «Кто на очереди?» И подойдя к сидевшему на нарах, спросила: «Ваша фамилия 3.?» Получив утвердительный ответ, сделала ему знак следовать за ней. Были еще названы фамилии; теперь вызвано было шесть человек, когда вдруг она спросила: «За что Вы арестованы?» — «Не знаем». — «В чем Вас обвиняют?» — «Не знаем». — «Впрочем, нам это совершенно безразлично». Один из вызванных спросил, оставляет ли он навсегда эту камеру и должен ли взять свои вещи; у него оказалась еще пара сапог и смена белья. «Лишний труд, и эти придется снять», — был жестокий ответ. Стало всем ясно, для какой цели их уводили. «Один из вызванных громко зарыдал: «Сжальтесь, у меня жена и маленькие дети»; трясясь всем телом, он опустился на нары, к нему подошел стоявший впереди, — это был знакомый пастор, я его только теперь узнала. Обняв плачущего за плечи, он спокойно сказал: «Идем, брат, Всевышний знает путь, по которому нас ведет, если мы и не знаем его», — и, заботливо поддерживая его, повел за другими. Кто-то из присутствующих подал рыдавшему его узелок; он только махнул рукой. Когда дверь за последним закрывалась, я еще раз услышала голос жестокой девушки: «Здесь немного, всего шесть». Затем в камере наступило глубокое молчание. Погодя я спросила, не могу ли быть для них чем-нибудь полезной. Большинство дали мне письма к родным, писанные на клочках, один мне передал свой манжет. Сунув всё это в волосы под косынку, я обещала повидать их близких и передать всё, о чем они просили меня. Наконец, вошли сторожа с носилками, и, уложив больного, мы покинули камеру. Сегодня Рольф, не приходя в сознание, умер. В бреду всё звал жену.» Крупные слезы текли по лицу Дэзи. «У нас в клинике, — погодя начала она, — вчера тоже трех больных из кроватей вытащили и увезли. Судьба клиники на волоске висит. Врач наш уже тоже неделю как арестован и едва ли его освободят; какой-то бродяга, которому он в 1905 г. отказал в выдаче медицинского свидетельства, теперь, узнав его, обвиняет в смерти своего брата, расстрелянного будто бы по вине доктора. Обвинение голословное, но в данный момент разве это играет какую-нибудь роль!»
Было уже после шести, когда Дэзи собралась уходить. Видя ее расстроенный вид, я предложила ее проводить до клиники, чему она очень обрадовалась. Было очень холодно, и добрая М. заставила меня одеть полушубок ее племянника. Когда мы вышли, улицы были пусты и темны. Уже войдя в ворота клиники, мы заметили необычайное волнение среди стоявшей кучки служащих. «Случилось что-то?» — спросила Дззи старика швейцара, идущего нам навстречу. «Сестрица еще не знает? Сегодня нашего доброго доктора застрелили разбойники, не только его, и жену, и обоих мальчиков». Старик заплакал. Дэзи прислонилась к стенке: «Что вы говорите?» — «Да, пусть вам Калин расскажет, она была свидетельницей». Он поманил рукой стоявшую среди служащих и рассказывавшую женщину. Она подошла к нам и рассказала, что была старшей сестрой с письмом послана на квартиру доктора. Когда она подошла уже к дому, к подъезду подъехал автомобиль, в котором сидел доктор с тремя вооруженными людьми. Затем, выйдя, они поднялись по парадной лестнице, а она через двор поднялась на кухню, в которой сначала никого не было, но потом пришла из комнат прислуга и сказала, что привезли доктора и что теперь идет обыск в кабинете доктора; из письменного стола выбирают все бумаги; сначала было все тихо в квартире, слышались голоса, изредка взволнованный голос жены доктора, но вот голоса становились все громче и громче, поднялся шум. Чуя недоброе, она с прислугой доктора спрятались в коридоре за шкафом; оттуда они видели, как вооруженные мужчины старались вытащить доктора в переднюю, а жена его, крепко держась за его руку, не отпускала. Оба сына 13-ти и 17-ти лет следовали за ними, стараясь успокоить мать. Обезумевшая от страха за мужа, женщина старалась оттолкнуть державших мужа. Один из них замахнулся и ударил ее по лицу. Показалась кровь, тогда оба мальчика с криком бросились на оскорбителя своей матери. Здесь уже завязалась общая свалка. Раздался бешеный крик одного из мужчин: «Сейчас всех расстрелять, и этих щенков». На шум с улицы прибежали еще двое и всю несчастную семью потащили из квартиры. Свидетельница с прислугой не успели спуститься по черной лестнице, как раздался душераздирающий крик жертв, послышались выстрелы, и всё затихло, затем раздался шум отъезжающего автомобиля. Спустившись вниз, они увидели во дворе у ворот тела несчастных мучеников. На жене доктора буквально ничего не осталось от платья. Ее младший сын лежал ничком около нее, обхватив мать крепко руками, все четверо были мертвы.
Дэзи едва держалась на ногах, зубы ее стучали. Я с швейцаром помогли ей подняться по лестнице. С помощью дежурной и совершенно расстроенной сестры мы уложили ее в постель. Я еще немного посидела около нее, пока она немножко успокоилась, и с тяжелой головой и сердцем пошла домой. И все это для блага народа!!
18 января.
Из Митавы пригнали пешком много арестованных мужчин и дам, в том числе мать и сестру моей belle-soeur. Общими усильями собрали в городе белья, платья и съестного, но, прождав на морозе перед тюрьмой напрасно два часа, получили ответ, что ранее недели ничего приниматься для заключенных не будет. Список выдали. Большая часть была из немецкого дворянства, но было немного и латышей.
20 января.
В 6 часов утра бомбой к нам в спальню влетела Юлия и выпалила, что в доме уже опять идут обыски. С моей больной сделалось дурно; причиной оказались четыре великолепные серебряные вазы, принесенные вчера ее племянницей из соседней квартиры и теперь находившиеся в шкафу в ее комнате. Терять нельзя было ни минуты; положили их в простой мешок и засунули с помощью кухарки Эммы в кухне в мусорный ящик. Вскоре пять вооруженных латышей заявились к нам в квартиру, и начался обыск. В буфете было еще оставлено кое-какое серебро, которое ими было взято. Смотрели всюду — в шкафах, столах, но ничего особенно не перерывая; пробовали диваны и кресла. Так переходила они из комнаты в комнату. Около моей кушетки-сокровищницы стояла прикрытая занавесью 30-фунтовая жестяная банка с кофеем, они заглянули и под кушетку, но банки около не заметили. В общем, искали благодушно, хотя все пятеро были латыши. Пока они делали обыск у Штр., где забрали весь табак и сахар, я прошла в кухню, чтоб перенести драгоценный мешок в комнату, но Эмма уже по собственному почину меня предупредила. Обыск кончился более чем благополучно. М. напоила их в кухне кофеем. Из запасов они взяли сравнительно тоже не так много. Только вино взяли всё, оставив несколько бутылок, по моей просьбе, старикам. Вино, по-видимому, и табак их особенно любезно настроили. Без всякого сомнения, что всё это они национализировали исключительно в свою пользу. Итак, мы расстались дружелюбно. После их ухода, улучив удобный момент, я снесла две вазы вниз к В. Но две другие старушки хотели оставить у себя, ссылаясь на то, что обыск был и так хорошо сошел, что теперь нам бояться ровно нечего. Я им не противоречила. В пятом часу зашла к Д., она уже была на ногах и работала. Возвращаясь домой, я встретила у нас во дворе штатского, лицо которого мне показалось знакомым. Он скрылся в другом подъезде нашего дома. Уже поднимаясь по лестнице, я вспомнила, где я его видела; это был один из пяти делавших у нас утром обыск. Весь вечер я не могла отделаться от неприятного чувства, произведенного этой встречей. У больной сидели как раз гости и, узнав, что у нас уже был обыск и сошел благополучно, собирались нам завтра прислать уйму вещей. Потом, прощаясь с ними, я просила их завтра еще ничего не присылать. Старушка моя удивленно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Уже лежа в постели, я все еще думала о неприятной встрече.
21 января.
Ровно в пять часов я проснулась, как от электрического тока, и в тот же момент почти раздался резкий звонок в кухне. Накинув халат, я вышла в гостиную и в дверях передней столкнулась с вчерашним штатским. Он был в сопровождении двух других с ружьями. Тут же стояли все три прислуги и швейцариха. Он сердитым голосом говорил им что-то по-латышски, грозя рукой. Они плакали. Увидев меня, он закричал ломаным русским языком: «Где мешок с серебром. Слышите! Мы вам покажем, как не слушаться наших декретов, у нас расправа с изменниками короткая». Очевидно, был донос, но кто? Неужели Эмма? «Если вы помогаете врагам народа, — обратился он теперь на русском языке к ним, — то мы расправимся с вами, как с бешеными собаками». Поднялся неимоверный рев. «Отвечайте сейчас! Был мешок с серебром, одна из вас его прятала, нам все известно. Которая из вас?» — «Я, — дрожащим голосом прошептала Эмма, — баронесса… сестра, — поправилась она, — приказала». — «Слышите?» — обратился он ко мне. Я молчала. «Ну, да что тут толковать, мы его сами найдем. Все с нами в одну комнату и ни с места!» В кроватях остались больная и незамеченный Люша.
Втроем они принялись за дело. Всё выворачивалось и выбрасывалось из столов и шкафов. Каждая вещь пересматривалась. Плохо, подумала я, если доберутся до моей кушетки. На столе лежали в корзине клубки с бриллиантами, через минуту они лежали в углу, а стол был опрокинут и тщательно осмотрен. Один из них открыл центральное отопление и торжественно извлек обе серебряные вазы и еще какие-то мелочи, спрятанные М. Я всё смотрела, когда очередь дойдет до большой жардиньерки, под которой мы укрепили большой серебряный поднос. Вот и до нее дошли, полетели горшки с цветами на пол; большую пальму тоже опрокинули, искали в земле, а «слона»-то и не приметили. В столовой из стоячих часов, из секретного отделения вытащили мешок с золотыми и серебряными монетами, причем искавший нашел сейчас секретную пружину, что было не так легко. Повертев мешком перед нашими носами, он злобно сказал: «Погодите, мы вам покажем». Перешли в комнату М. Люша, проснувшись, выскочил из кровати, которую они перерыли до основания. Ни одной книги не оставили не пересмотренной. С ночного столика забрали золотые часы и кольца. Очередь дошла до комнаты больной. Ее кровать была тоже осмотрена. В бельевом шкафу нашли еще немного серебра. Пока они добросовестно перерывали шкафы и комоды, я незаметно приблизилась к кушетке и отодвинула ее от стены, боясь, что они могли заметить ее неестественную тяжесть, а так они могли к ней подойти со всех сторон. Вот и за ней очередь! Постель моя полетела на пол. Один стал ее пробовать, засунул руку в складки, заглянул под нее и тут заметил около жестянку с кофеем. Внимание его было отвлечено. Кушетка спасена!.. Так проходили мы комнату за комнатой, пока не дошли до ванной, где из угла был наконец извлечен пустой мешок. Полное недоумение! «А серебро? Где же вещи?» — «Вы их нашли в отоплении и в шкафу, — спокойно ответила я. — Они временно были мною положены в мешок». — «Это те вещи»? — обратился он к Эмме. «Я не знаю, какие были вещи в мешке. Говорили, что серебро». — «Ну, трибунал разберет!» Обыск продолжался пять часов. С наших мучителей пот лил ручьем. Они поминутно вытирались чудесными платками, по-видимому, тоже где-нибудь национализированными. Обыск кончился. Свирепый большевик записал все наши имена, приказав затем М. и всей прислуге следовать за ним.
Закрыв за ними дверь, я вернулась в комнату больной. Старушка лежала в обмороке, а оба брата ее усердно поливали холодной водой. Дав ей понюхать нашатырного спирту, от чего она сейчас пришла в себя, и переменив белье, я предложила заняться варкой кофе, так как был одиннадцатый час.
Все они, конечно, страшно волновались, что найдено серебро, так как по декрету оно всё должно было быть сдано. Увод М. и прислуги всех тоже очень беспокоил. «Черт знает что они еще там от страху всего порасскажут», — волновались братья. Я их успокаивала, что обыск сравнительно отлично сошел, что могло выйти гораздо хуже, если бы они открыли секрет моей кушетки и что эти чудные хрустальные вазы с серебром особенной ценности, с точки зрения серебра, не имеют. Мало-помалу все немного успокоились и принялись мне помогать в приготовлении завтрака. На Люшу обыск не произвел особенного впечатления, он возмущен был, что все его книги были на полу разбросаны. За кофеем все были уже в более нормальном состоянии духа. Старички даже начали подсмеиваться и острить один на счет другого. С. уверял, что, услышав голоса в передней, Г. никак не мог попасть ногами в туфлю, а Г. уверял, что С. пытался безрезультатно натянуть на руки вместо фуфайки свои брюки.
Через два часа наконец вернулась М. с девушками в сопровождении какого-то довольно приличного на вид господина, который вызвал меня и спросил, действительно ли мною было спрятано серебро, и, получив утвердительный ответ, задал еще несколько вопросов. Разногласий, по-видимому, не было в наших ответах, так как он заметил, что показания сходятся. «Зачем вы скрыли серебро, сестра. Вы ведь знали о декрете?» — «Я это сделала без корыстной цели, зная, что эти вещи дороги моей больной по воспоминаниям». Он покачал головой: «Хорошо, что вы попали на порядочного человека, а то могло кончиться для вас очень скверно», — и, кивнув головой в мою сторону, он вышел. Кого он предполагал под «порядочным человеком» — себя или производившего обыск — осталось невыясненным. Потом вся тайна второго обыска открылась: вечером в день первого обыска зашла к нашей прислуге девушка из квартиры бар. В. (в другом подъезде) — девица очень красная. Эмма же сдуру и расскажи ей, смеясь, как она при обыске «надула комиссара» и скрыла целый мешок серебра. В тот же вечер комиссар был на вечеринке у красной девицы почетным гостем и главным ухаживателем. Она и подшутила над ним, как «баронши» дурачат их. Это уже являлось вопросом задетого самолюбия. Отсюда и была такая ужасная злость.
26 января.
Газеты приносят вести о боях на фронте большевиков, но с кем? Слухи различны, кто говорит, что это германцы, идущие против большевиков, по требованию Entente, другие говорят, — это русская северная армия,[177] по третьим источникам, это шведы с американцами. Из большевистских газет мы знаем только, что «противник наступал большими силами, но был нашими доблестными стрелками отбит с большим уроном». Но слухи передавались из уст в уста, что наши нас не забыли и делают всё, чтобы нас освободить. Все эти дни сижу безвыходно дома, и моя больная и я чувствуем себя скверно. Сегодня вышел декрет о сдаче всех арм. пассов. Это очень неприятная вещь для тех, кто носит скомпрометированную у большевиков фамилию. Наш симпатичный швед-массажист дал мне хорошую мысль, если она осуществима без бумаг, а именно — записаться в союз сестер милосердия Красного Креста. Таким образом, у меня будет латышский документ, где придется, конечно, фамилию переврать; но на основании чего они мне его выдадут? «Попытка — не пытка», говорит пословица, завтра попытаю счастья.
27 января. |