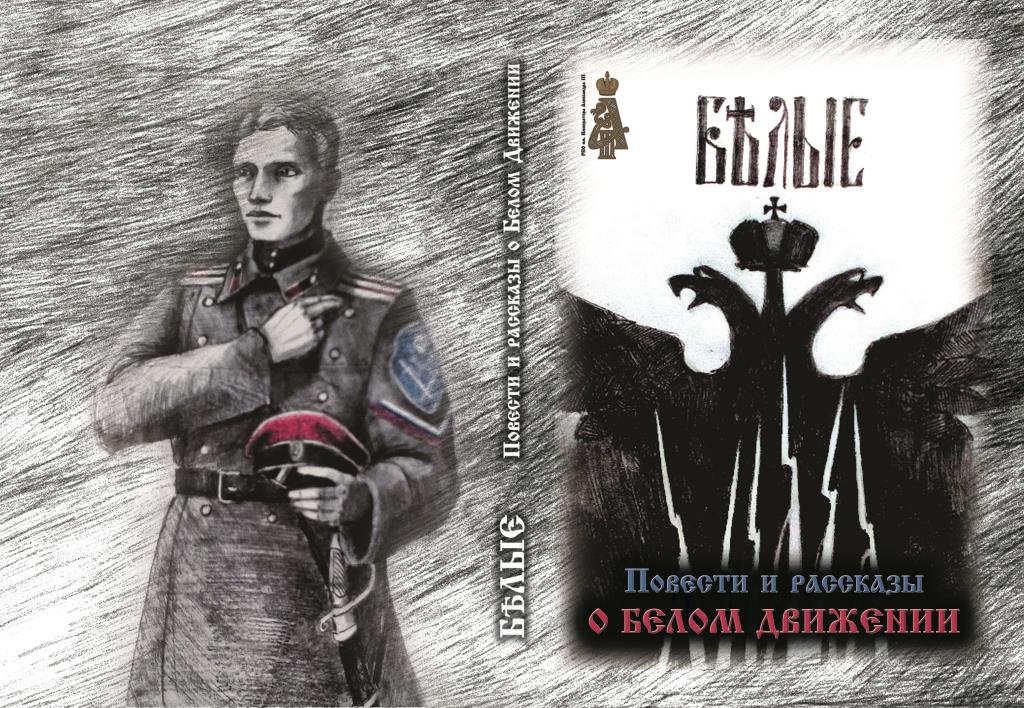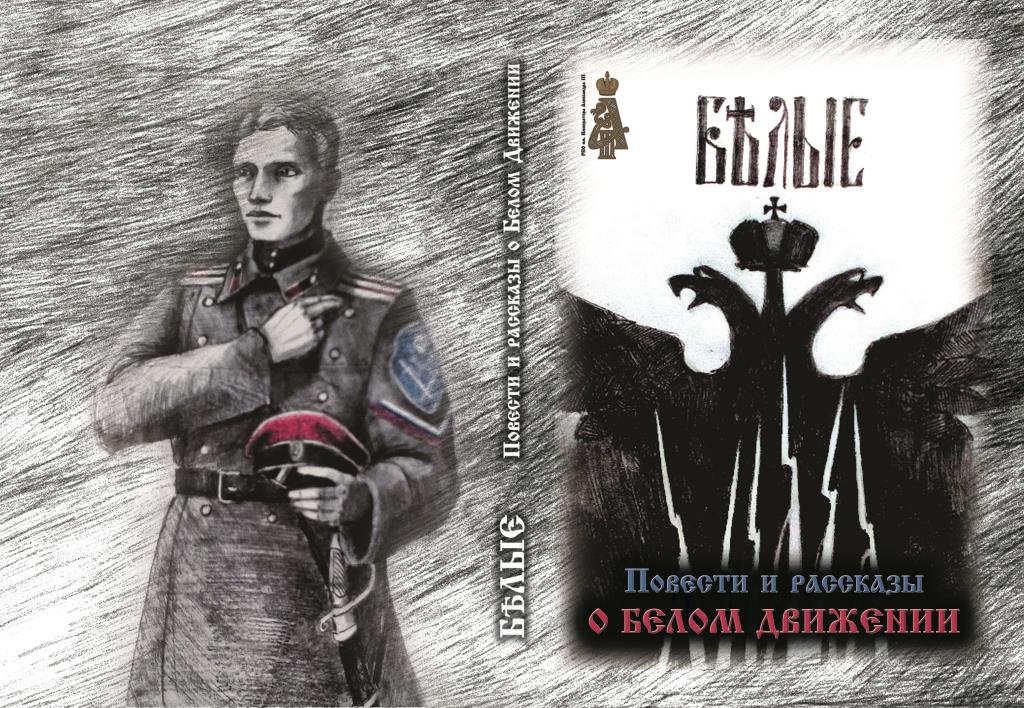
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15550/
«Прошлого тени чредою
Снова всплывают вдали...»
«365»
Ботинки были усердно начищены до сверкания, не менее усердно наутюжены черные брюки. Белая гимнастерка опоясана лакированным поясным ремнем с серебряной бляхой, на которой блестела накладная буква «А» под короной, внизу буква «Ц». Такие же пуговицы и такой же гордый герб на синей с белыми кантами фуражке.
Гимназист гимназии с полувоенным укладом, имени Цесаревича Алексея, долженствующей быть кадетским корпусом - еще одним на юге Империи, под великокняжеским шефством Цесаревича Алексея.
Но... у б и т Царевич, гимназии этой больше нет. Не будет и корпуса. Форма осталась. И он был горд ею, в ней и явился в новую гимназию, в новом городе, куда весной, незадолго до этого описыва¬емого нами дня, его отец был переведен по службе.
Август 1919 года.
Итак, в руках несколько книжек и тетрадей, туго завернутых в черную клеенку, затянутую резинкой. Пришел и... в оторопелом смущении, переходящем в тихий ужас, стоит на углу, недалеко от большого здания на обширном дворе с решетчатой оградой, вдоль ко-торой разместились громадные кусты сирени, из-за которых несся шум, писк, визг - шум взбудораженных нескольких пчелиных ульев, напоминающий еще гомон громадной стаи птиц, устраивающихся на ноч¬лег. Мелькали коричневые форменные платья, черные фартуки, просто белые, серые обыкновенные платья и платьица, девчачьи вихры, косы, черные банты, белые воротнички...
Было от чего придти в ужас...
Но, набравшись решимости, наш гимназист зашагал в направлении широко открытых ворот, опустивши долу голову, пронесся мимо и ос-тановился на следующем углу, вытирая носовым платком никогда до того не потевший лоб.
А дело было вот в чем:
В этом небольшом городе единственная мужская гимназия была переполнена, прием был закрыт.
Единственная женская гимназия объявила в этом году прием уже и мальчиков, куда его временно и определили в четвертый класс, имея в виду, что в недалеком будущем, смотря, как сложатся обстоятель¬ства, будет произведен уже давно оформленный перевод в кадетский корпус. Эта надежда как-то скрашивала неприятную необходимость да¬же временно учиться в женской гимназии.
Сегодня первый день нового учебного года, начатого несколько раньше обычной даты.
Девочки, жившие в домах на той же Мариинской улице - и осо-бенно одна из них, Лиля - обещали полную поддержку, успокаивали, что он будет там не один, что мальчиков, наверное, будет еще много.
Но идти надо. Пошел к воротам и, уже подходя к ним, быстрым взором обнаружил, что во дворе за сиреневыми кустами нет ни одно¬го мальчика, отчего, ускорив шаги, опять промаршировал мимо ворот.
Как вдруг он услыхал крики:
- Девочки, смотрите, наш мальчик пришел, это тот самый, о ко-тором начальница и учительницы говорили...
Кто-то кричал:
- Гимназист, идите сюда, сюда... - и сразу услыхал топот мно¬жества ног и, остановившись, почувствовал, что ужасно краснеет от охватившего его смущения, увидя себя быстро окруженным целым ка¬лейдоскопом множества глаз, бантов, платьев, разных лиц, что-то говоривших, кричащих, смеющихся губ... Чьи-то руки отобрали его книги, кто-то спрашивал: «как тебя зовут?»... Другие голоса за не¬го отвечали, называя его имя и даже фамилию; спрашивали, почему на гербе буква «А», сняли со стриженой головы фуражку, - а что обозначает буква «Ц»?». Другие, дергая за рукава, спрашивали: «где живешь? Сколько тебе лет? есть ли у тебя сестры?... откуда приехал?...» Из задних рядов кричали: «Мы знаем тебя, ты с Мариинской улицы, будешь в нашем четвертом параллельном классе»... и еще что-то многое другое. Уловить все было просто невозможно...
От смущения он только улыбался, видел, как его книжки с тет-радками какая-то девочка понесла уже во двор, его синяя фуражка красовалась на голове курносой чернушки, которая, как ни в чем не бывало, слушала и тоже задавала какие-то вопросы.
Подошли другие гимназистки, несколько постарше, мелюзга рас-ступилась. С очень серьезным лицом старшая девочка назвала себя - Нина Когновицкая, четвертого класса, дежурная, - безапелляционно взяла мальчика за руку и повела его к воротам. Пройдя их, так же серьезно сказала:
- Мы идем к начальнице, она вас ждет, сегодня утром об этом нам уже сказала классная наставница Вера Ивановна.
Кто-то по дороге надел на его голову фуражку, кто-то сунул в руки его книги. Весь путь через двор, к зданию, где находился ка¬бинет начальницы гимназии, описать трудно, это было что-то вроде триумфального шествия красного до слез «героя» между густыми ряда¬ми девиц, то ли идущего на казнь, случайно попавшего на остров амазонок единственного, с позволения сказать, «мужчины».
Последнее определение и самоощущение было по переживанию ми¬нуты более подходящим, так как, не видя вокруг себя ни одного мальчика, душа «героя» совсем приуныла.
А девочек было много, ужасно много, куда ни кидал свои взоры - кругом фартуки, косы, банты, улыбки и даже высунутые языки. На улыбки отвечал жалкой улыбкой, на высунутые языки имел желание то¬же высунуть язык и даже хуже - показать озорницам кукиш, - но воз-держался, решив про себя проучить потом, как показывать язык гим-назисту в форме.
Все происходило, как в тумане. Начальница выслушала «рапорт» о прибытии, ласково улыбаясь, просила быть примером поведения для девочек и, обращаясь к находившимся в ее кабинете батюшке и еще одной даме, сказала фразу, которая заставила содрогнуться и запом¬нить ее ка многие годы.
- Господа, сегодня я буду иметь честь поздравить весь педаго-гический совет, весь состав нашего персонала и всю гимназию с от-крытием новой страницы нашего учебного заведения. С сегодняшнего дня наша гимназия уже является учебным заведением смешанного со-става. Вас, гимназист, я поздравляю тоже, вы первый мальчик в нашей гимназии, в которой учатся и воспитываются триста шестьдесят две девочки...
Впервые в своей короткой жизни он почувствовал ужасное сердце-биение.
Дама, бывшая в кабинете начальницы, оказалась классной настав-ницей четвертого параллельного класса. Опросив разрешение началь-ницы, она повела первого мальчика по коридорам в класс, который уже был заполнен сидящими за партами гимназистками. У дверей сно¬вали любопытные из других классов, но, увидев идущую учительницу, разбежались по своим коридорам.
Звонка еще не было. Вошли в класс. Все встали. Наставница по-здоровалась и, после дружного ответа: «Здравствуйте, Вера Иванов¬на...» - обратилась к классу:
- Девочки, первый мальчик-гимназист сегодня в вашем классе открывает новую страницу нашей гимназии... - Сзади раздалась многозначительная реплика: «Ска-ажите пожалуйста...». Вера Ивановна, не обращая внимания, назвала его имя и фамилию, как вдруг сзади кто-то опять пискнул: «душка синеглазая»... а другой голос спокой¬но произнес: «пусть не боится, обижать не будем, будем его любить», - и сразу ей в тон реплика: «кроме меня, увольте от любви...», и уже совсем ошарашил его резкий голос: «нам мальчишек не надо!»
Вера Ивановна, подойдя к учительскому столику, стукнула каран-дашом по его поверхности и четко, довольно холодно произнесла:
- Ни слова больше, тихо, садитесь... - Все сели.
- Ваше место, гимназист, в этом классе, на этой парте, - и ука¬зала первую парту, на которой уже сидели две девочки - одна уже известная нам Нина Когновицкая, вторая довольно крупная девица Иля Колюжниц. На многих партах сидело по три девочки.
Нина сразу встала и, обращаясь на вы, вежливо пригласила но¬вичка сесть в середине. Сев, почувствовал какую-то уютность и в то же время на своем затылке десятки сверлящих его глаз.
Вера Ивановна вышла из класса. Обращаясь к Нине, он спросил, в какое отделение можно положить свои книги, так как в парте было всего два отделения. Не успела Нина открыть рот, как случилось не¬что ужасное, ставшее предметом многих шуток на долгое время и даже за стенами гимназии.
Сзади первых парт были слышны шушуканья, какая-то возня, ти¬хие голоса: «скорей, Илька, скорей...». Присмиревший новичок вдруг почувствовал, как слева его обнимают руки в коричневых рукавах, пе¬ред, глазами мелькнули чьи-то тонкие пальцы, схватившие его подбо¬родок, затем чей-то нос, глаза, и в то же мгновенье в левую щеку раздался чмок поцелуя и одновременно дружный смех и аплодисменты. Сразу оторвавшаяся Иля Колюжниц, соседка слева, смеясь и тоже по-красневшая, глядя на оторопевшего мальчика, только и сказала:
- Это от всего класса, поздравление с новой страницей...
Нина вскочила с парты, но... в этот момент широко распахнулась дверь, всего один шаг сделала из коридора появившаяся гимназистка в форменном платье с белым воротничком, обрамлявшим бледное лицо, и дрожащими губами громко сказала:
- Стыдно, стыдно обижать нового мальчика, мы все видели...
Позади ее топились другие ее одноклассницы 3-го класса. Девоч¬ка возмущенно продолжала:
- Это издевательство, вас много, он один, а о тебе, Колюжниц, я и все мы будем самого дурного мнения.
Это была Лиля (дочь первопоходника). Сзади ее стоял батюшка, незаметно подошедший к классу. Первый звонок оповестил начало первого урока нового учебного года. Последнего.
***
«Вьются, Льются, над душою
Тени милых дней,
Тени светлой и далекой
Юности моей».
С тех пор прошло много, много лет. Бывший гимназист гимназии Цесаревича Алексея стал седым, преклонных лет дедушкой. Тени про-шлого в этом возрасте с особенной отчетливостью всплывают перед глазами, и особенно в сумерки, в вечерней тишине...
Как будто слышатся голоса из глубины ушедших лет, - нет, не ушедших, а умчавшихся, как будто вот было вчера или совсем недав¬но: песни над тихим Доном, а потом над морем Черным, как будто помнятся запахи полей, горных цветов, урчанье ручейка, бегущего из кристально чистого и всегда холодного родника, и порой что-то напоминает еле уловимый запах духов от непокорных завитков волос или от банта русых кос (от духов маминых флаконов).
И вот однажды в сумерки, сменившиеся потом тихим вечером, ста-рый гимназист (кстати, мой тезка) поведал свои грустные воспомина¬ния о девочке, дочери первопоходника, и о себе тех лет далеких. Лебединая песнь, удел всех, кто хоть что-то пережил.
***
ОТРОЧЕСТВО, «ЮНОСТЬ».
«Хороши только первые встречи
Хорошо только утро любви...»
Хорошо помню, как еще задолго до определения меня в женскую гимназию я перезнакомился со сверстниками, девочками и мальчиками своей улицы, где мы поселились на казенной квартире. Мальчиков бы¬ло меньше, девочек больше. Все еще помню имена некоторых из них. Алеша и Виктор моих лет, Лека Бобров был самый младший из всей группы, но самый озорной, брат Лиды; затем девочки: Виктория З.Ст. Лара Ч-а, Соня Мороз, Тамара М-о и... Лиля.
Каждый вечер, по давно установившейся традиции, собирались на каком-нибудь крыльце, а чаще на траве у Церковной ограды на пригорке в конце улицы. Подолгу, без умолку говорили о прошлом, о буйном настоящем, а больше о планах на будущее.
Здесь я должен оговориться. Это, наше тогда поколение отро¬ков двенадцати, четырнадцати лет шагнули по злой иронии судьбы и по вине старших прямо во взрослость - по своим переживаниям, испы¬таниям и даже часто по делам своим. Ведь большая часть юности у нас была отнята, но, несмотря на это, это поколение не затеряло чувства детской пытливости, наивности, романтики юности, понятия о чести, милой сентиментальности и своей трогательной любви к ро¬дине, Святой Руси. Суммируя все, - не утеряли человечности.
Многие из нас детьми особенно переживали где-то бушующую мировую войну, видали отправлявшиеся на фронт маршевые роты, видали санитарные поезда на вокзалах, видали выгрузку легко и очень тяже¬ло раненых, видали и бывали в военных госпиталях, посещая в них раненых, часто своих родственников.
Почти каждый день слыхали звуки похоронных маршей и видели гробы, следующие на кладбище, с фуражками на них. Видали пленных германских, австрийских, турецких солдат и офицеров, их взаимоот-ношения с русскими военными, с населением, и никогда не видали ни злобы, ни ненависти, а наоборот - взаимное уважение и даже предуп-редительность ...
С интересом следили за ходом военных действий по журналам «Нива», «Солнце России», «Родина», по вечерним телеграммам. И, на-конец, эти подростки, по сути еще дети были свидетелями ужасов, не-слыханных жестокостей гражданской войны, в которой дети часто при-нимали какое-то возможное для них побочное, вспомогательное учас¬тие в Белом движении, а очень часто и непосредственно в строевых частях Белых Армий на всех фронтах.
Тяжело, не по возрасту переживали смерть многих родных и близких людей своих семей, видя и сознавая гибель привычного укла¬да глубокого мира и просто привычного приличия, на смену которому вылезала, именно вылезала мерзость, жестокость, грязь, неприличие… Это делало нас взрослыми. Полной юности, как таковой, так и не бы¬ло...
Лиля... В те первые вечера моего знакомства с нею и с ее окружением, в воскресные дни на море, в горах я переживал первое, еще неведомое чувство радости, чувство прелести чего-то... видеть, ждать, быть около, вместе - вот именно, около и вместе. Я видел ее внимание к себе, видел нежность ее васильковых глаз, ласковость голоса, а во время разных игр - нечаянные прикосновения маленьких пальчиков, горячая защита каких-то моих маленьких интересов... Все это рождало чувство, искони называвшееся... первой любовью!
Тогда это было светлое знамя, во имя которого рождались луч¬шие чувства, заложенные в человеке от сотворения мира. Была ра¬дость жизни. Готовность к самопожертвованию.
Познакомились просто. Они все, жившие в домах Мариинской ули-цы, играли у деревьев в разные игры. Я, новичок, стоял у своего парадного крыльца и никого еще не знал. Вдруг высокая, тоненькая девочка с белым платочком на голове, решительно отделившись от группы, подошла и, приветливо улыбаясь, просто сказала:
- Идем играть с нами, мы уже тебя знаем, я Лиля, та большая девочка Витя, эта черная, как цыганка, Лара, та, что прячется, - Соня, а с ней Тамара. Этот мальчик Алеша, с ним Лека, еще один есть Витя, скоро придет. - Назвав всех, попятила: - Нас, девочек, больше, и мальчики должны нас слушаться.
Так я стал членом клана Ларинской улицы. Вот с того же дня, и в дни последующие Лиля все больше и больше овладевала моим вни-манием. Стал с нетерпением ждать вечера, когда мы все собирались, не хотелось уходить домой, когда уже было пора. Как-то, заходя, сказал «спокойной ночи», это вышло как-то особенно, она посмотрела на меня и таким же тоном тихо сказала: «Пусть сегодня во сне тебе пригрезится все, что ты хочешь наяву». Я не выдержал и даже, ка¬жется, со слезами на глазах выпалил:
- Тебя, Лиля, хочу видеть всегда, и во сне и наяву! - и, не выдержав такого признания, неожиданно для самого себя убежал.
Во время игр, порой стремительной беготни, я следил за ее легким бегом, любовался ее грациозной увертливостью, гибкостью, заразительным смехом и даже серьезными наставлениями нарушителям правил игры.
Если она, бывало, споткнувшись, падала или нечаянно ударя¬лась обо что-нибудь, я в мгновение ока был около нее.
Я уверен, что многие в этом возрасте, в ранние дни на пороге своей юности, переживали то же самое или нечто похожее.
У Лили были тонкие, правильные черты нежно-матового лица, осо-бенно хороши были ее васильковые, задумчивые глаза, в которых всегда светились нежность и участие, а когда она улыбалась, все ее лицо становилось милым.
Высокая, стройная девочка, с признаками в недалеком будущем стать интересной маленькой женщиной. Она не была хорошенькой, она была много лучше этого понятия, просто была вся хорошая, все в ней было привлекательно, и в этом периоде она была просто прелест¬на, вот такая, какой мы привыкли представлять себе Наташу Ростову или Лермонтовских княжну Мэри или Бэлу.
Лиля не всегда была в хорошем настроении. Порой я стал заме¬чать, как вдруг ее лицо менялось, она вдруг умолкала, лицо ее и вся фигурка принимали грустный и даже жалкий вид, когда пели что-нибудь хором или говорили о том, что касалось тогда всех, и боль¬ших и малых.
Счастья былого мечтанья,
Юные грезы любви...
Белая ночь... ожиданья...
В вечность вы все отошли!..
В.Ф.
Однажды, когда моросил мелкий дождичек, всю свою группу под-ростков Лиля позвала к себе. Собрались в их маленькой гостиной, ее мама, совсем еще молодая женщина, назвала нас всех по именам, пошутила с каждым, потом сыграла что-то легкое на маленьком пиа-нино, закончив, сказала: «это вам для встречи «Марш гномов», а потом ушла к себе, оставив гостей на попечении своих трех дочерей. У Лили были еще две младшие сестры - Женя, кажется, 9-Ю лет и Олечка 7-8 лет.
девочки стали занимать нас, показывая свои книги «Золотой би-блиотеки»: тут были Клавдия Лукашевич, Фенимор Купер, Чарская, Луи Буссенар, Жюль Верн, журналы «Светлячек», «Мурзилка» и много других. Смотрели семейные альбомы и альбомы Лилиных рисунков, она уже тогда недурно рисовала карандашом и акварелью.
Сидя на уютной тахте рядом с Лилей, с ее альбомом на коленях, я ощущал тот милый уют этого маленького очага русской семьи, с этими книгами, пианино, гравюрами в старых рамках, журналами, фи¬кусами в боченках, который был так знаком и дорог по недавнему прошлому в своих комнатах, откуда недавно уехали.
На новом месте у нас не все еще было устроено, комнаты новой квартиры еще не были обжиты до атмосферы, где десятилетиями жили семьи, где каждый уголок имел свои особенности, каждая комната свои запахи, памятные по каким-либо семейным происшествиям.
На бамбуковой этажерке около пианино, где лежали журналы и ноты, на верхней полке мое внимание привлекли две фотографии в темных рамках; сбоку лежала пара серебряных шпор.
На левой фотографии стоял кавалерийский офицер, на погонах видны три звездочки - поручик, - в руках фуражка и перчатки.
Встав, подошел, чтобы рассмотреть лучше. В другой рамке как будто то же лицо, во всяком случае, какое-то далекое сходство есть, но лицо похудевшее, озабоченное, уставшее, заметна седина на висках, на погонах один просвет и звездочки - штаб-ротмистр, - а на рукаве углом трехцветный ударный знак, какой носили в доброволь¬ческой армии, и на груди... такой знакомый и ставший родным знак тернового венца с мечем на георгиевской ленте, какой имели многие в наших семьях.
Я обернулся, но еще не успел открыть рта для вопроса, как Ли¬ля очутилась около и, глядя с испугом в глаза, только и сказала:
- Пожалуйста, не надо, не надо...
Сняла фотографии с полки и унесла в дверь, куда ушла ее мама.
***
Был хороший, теплый вечер. Как обычно, собрались в церковной ограде. Я принес свою гитару, на которой играл скверно, а аккомпа-нировал себе недурно, когда пел многие, тогда очень популярные среди молодежи песенки. А петь, надо признаться, я тогда любил. В этот вечер я как-то особенно, не сильным, но чистым тогда еще го¬лосом и довольно выразительно, что называется, «с душой» спел «Снежинку», которая всем очень понравилась, особенно слова, как:
«Она казалась елочной игрушкой В оригинальной шубке из песцов. Изящный ротик, маленькие ручки, Прекрасной феей, феей чудных снов»...
«Но вот свершилось, ты уже чужая...»
После этих слов, когда замер последний мягкий аккорд гитарных струн, после минутной тишины и молчания, голоса разделились, раз-бирая смысл обыкновенной истории. Некоторые оправдывали Снежинку, часть, и как будто большая, осуждали ее измену и искренне, сердеч¬но жалели его, умирающего и все же поющего ей:
«Прощай, Снежинка, прощай, пушинка, Моя царица, царица моих грез... Моя Снегурочка, моя хрустальная, К твоим ногам всю жизнь принес!..»
Лиля молчала, а на глазах - и не только у нее - блестели сле¬зинки. Тогда молодежь была чувствительна ко всем проявлениям чело¬веческих переживаний.
Перебирая струны, извлекая грустные мелодии, не знаю почему я тихо стал напевать любимую тогда песнь, памятную по совсем не¬давнему времени: «Спите орлы боевые...», и вот, когда совсем тихо пропел:
...«Вы под могильной землею Тихо сомкнули ряды... Так спите, орлы боевые...» - дальше продолжать не мог.
Лиля, которую обняли девочки, горько плакала, судорожно дро¬жали ее худенькие плечики. Плакала и Женя и ее маленькая сестренка, которую обняли Тамара и Лара. Виктор, брат Тамары, делал мне знак не петь и не играть...
Разошлись, опечаленные финалом нашего вечера. Девочки проси-ли написать им слова «Снежинки». Виктор и Алеша позвали меня еще посидеть и... покурить: тогда мы понемножку уже пускали дым из но¬са от папирос фабрик Асмолова, Кушнарева и Месаксуди, еще не пере-именованных.
Устроившись на скамейке у церковной ограды, мальчики расска¬зали мне о том, что было совсем недавно. Говорил, собственно, Вик¬тор, Алеша и Лека его дополняли.
***
«ВЕРНЫЙ ПРИСЯГЕ» (Рассказ мальчиков)
«А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрет.
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет».
Лилин папа был офицер какого-то конного полка. В начале вой¬ны 1914 года с полком ушел к границам Германии. Его семья - жена и три их дочери - приехали откуда-то и поселились у своей бабушки, где живут и сейчас.
В 1916 году их папа был ранен, лежал где-то в госпитале. По¬сле окончания лечения приехал на поправку в отпуск сюда. Мы не помним, сколько он был здесь, но не меньше трех недель или несколь¬ко больше. За это время все к нему привязались и полюбили его, да и было за что. Его имя Георгий, отчества никто не знал, и все его звали просто дядя Жора, а мы, мальчишки, подчеркнуто, не зная, как угодить или оказать наше огромное уважение, величали «ваше благо¬родие, господин поручик», а он нас в играх производил в ефрейторы, унтерофицеры и даже в подпрапорщики. Но чаще, забывая, все мы его звали тоже «дядя Жора».
Почти каждый день он собирал всех детей всех возрастов, и все вместе уходили в горы, где он нам рассказывал и показывал, как где-то далеко, далеко русские солдаты днем и ночью, в изнуритель¬ную жару и в леденящий холод вот уже два года защищают нашу Свя¬тую Русь от злых врагов, напавших на нас.
Он был очень веселый, хорошо пел, учил нас петь наши русские песни и песни военные. Ходили на море, а накупавшись и наигравшись в волнах, шли в большой парк, где он всех оделял порциями клубнич¬ного мороженого, а потом мы шумно и весело кружились на гигантских шагах.
Время пролетело быстро, и вот...
***
Поезд уходил перед вечером. На перроне вокзала его провожали, кроме семьи многие соседи, знакомые, а главное - вся детвора Мариинской улицы и даже уже взрослые гимназисты; были и два кадета, сыновья инженера Л., жившего улицей ниже. Все к нему привыкли за это короткое время и на вокзал пришли задолго до отправки поезда.
Но вот раздался второй звонок, все посторонние наскоро жали ему руки, желали благополучия и скорого возвращения домой и отхо¬дили в сторону. Все дети, юноши тоже наскоро перецеловали его, кое-кто всплакнул, многих родители оттащили к себе.
Лилина мама, бабушка и Лиля вытерли глаза белыми платочками, Женя держалась за ножны его сабли, Оля была у него на руках, и эта самая маленькая в семье проявила неутешное горе расставания с от¬цом, расстраивая всех, кто кое-как еще сдерживал себя.
Маленькая Олечка, обняв шею отца, обливая своими слезками его погоны, плача, все время повторяла: «Я люблю своего папочку, я не пущу его, я с ним хочу, не отдам, не пущу!» - и все крепче обнима¬ла его голову, прижимая свое личико к его щеке.
Резкий голос звонка встрепенул всех. Все еще держа Олечку на руках, он поцеловал жену, склонившись, поцеловал руку ее матери, бабушки своих дочерей, она в свою очередь, перекрестив, поцелова¬ла его лоб.
По очереди обнял заплакавших Лилю и Женю, что-то сказал им, крепко поцеловал их щечки и, мягко звеня шпорами, все еще с Олень¬кой на руках, пошел к своему вагону, за ним пошла и ее мама.
Недалеко стоял Начальник станции в красной фуражке, около не¬го оберкондуктор поезда, державший уже свисток в руке, поглядывая на медлившего с отправкой поезда начальника станции.
И когда Олечку ее мама наконец с трудом взяла из рук отца, де-вочка буквально билась в истерике, все время крича: «Папочка, папа, не пущу, не хочу, не надо, не уезжай»...
Раздался переливчатый, протяжный свисток оберкондуктора, как умели тогда свистать оберкондукторы скорых поездов Владикавказской железной дороги, ему тотчас откликнулся гудок паровоза в таком же протяжном и оборвавшемся тоне. Медленно, бесшумно тронулся поезд и стал отходить. Олечка протянула руки к уходящему мимо синему ва¬гону. Из рук матери ее взяла бабушка с помощью Лили и Жени, но де¬вочка уже не кричала, она как бы так и застыла с протянутыми к уходящему поезду ручонками.
И последний раз мы все видели, как дядя Жора, стоя у дверей тамбура вагона, снял фуражку, перекрестился, перекрестил всех сто-явших на перроне, махнул рукой и исчез... навсегда.
Стал на ступеньку вагона уже ускорявшего ход поезда и молод-цеватый пожилой обер-кондуктор, смахнул набежавшую предательскую слезу, отдал честь начальнику станции и...
«Поезд где-то исчез,
В серой дымке вдали
Подплывали вечерние тени»...
Это было уходящее лето 1916 года...
***
Прошло больше двух лет. По-разному встречали новые 1917, 18-й, 1919 год. И вот ранней весной, на Пасху, к Эменовым приехал незна-комый офицер, привез те две фотографии, что сегодня ты видел на бамбуковой этажерке, его знак тернового венца за участие в Первом Кубанском походе, его шпоры и полевую сумку с его личными мелкими вещами, и когда до некоторой степени улеглось горе, вестником ко¬торого он невольно был, рассказал...
«Поручик Эменов в начале 1917 года был произведен в штаб-рот-мистры, был опять ранен. Во время мятежных дней буйного Октября лежал в госпитале в Воронеже, откуда в солдатском обмундировании и по подложным документам пробрался в Новочеркасск. Вступил в ря¬ды добровольческой Армии, с которой и нес все тяготы гражданской войны. Под Екатеринодаром был ранен уже в третий раз, но легко.
По прибытии в Ростов заболел и лежал в Николаевской больнице. Затем - Второй Кубанский поход, стремился домой, к семье. Но... не счесть превратностей судьбы жестокой, которая так часто насти¬гает у порога радостей тех, для кого вера, верность и честь были превыше всего.
Недалеко от станции Кавказской, во время боя с командой раз-битого нашей артиллерией красного бронепоезда штаб-ротмистр Эменов, yжe стоя на захваченной нами броневой площадке, был убит убе¬гавшими и все еще отстреливавшимися матросами.
Команда бронепоезда состояла из черноморских матросов, с ге-оргиевскими лентами на бескозырках.
Так рассказали мне мальчики в тот вечер у церковной ограды, после чего я проникся еще большим чувством особого уважения к этой осиротевшей семье. К этому времени и наша поминальная книжеч¬ка уже пестрела именами «за упокой» павших смертью храбрых за Русь Святую, как пал и Лилин папа.
***
Зима 1919 года проходила под знаком все усиливающейся трево¬ги, наплыва множества беженцев; госпитали, больницы были перепол¬нены ранеными и больными. Тревожные и невеселые вести с фронтов гражданской войны перегоняли друг друга. В небольшом порту умно-жилось количество пассажирских, грузовых пароходов, на которые что-то грузили, принимали довольно прилично одетую публику с боль¬шим количеством багажа. Затем пароходы куда-то уплывали.
Со своим положением в женской гимназии я уже освоился, при¬вык, шел в гимназию со своими одноклассницами и с девочками других классов, жившими на нашей улице. Возвращался тоже с девочками, уро-ки делал тоже иногда с ними - то у Нины, то у Или Колюжниц, с ко¬торой подружился, иногда у Маши Колонджело. А бывало - они прихо¬дили ко мне; познакомившись, мама всех угощала чаем со свежепри-готовленным хворостом или пончиками с вареньем.
В семье Лили я стал своим мальчиком, который, надо сказать, переживал радость взаимной дружбы, любви, доверия. Вместе с Але¬шей и Лекой-озорником мы организовали пилку дров. Так в течение нескольких дней во дворе Лили мы перепилили воз дров и аккуратно сложили в сарае. Туда же на тачке перевезли сваленный на улице уголь, не дав Лилиной маме, а тем более бабушке и девочкам делать это самим.
Я стал часто запросто приходить в их маленькую гостиную по-слушать, как Лиля что-то выстукивала на пианино. Она тогда учи¬лась музыке и с папкой нот ходила куда-то заниматься. Лилина мама играла хорошо, я любил послушать ее игру, но это случалось редко. Она часто болела и многие дни проводила в постели. Все хозяйство вела бабушка с помощью Лили.
После моей семьи, эта семья первопоходника для меня стала да¬леко не безразличной. Особенно тянулась ко мне маленькая Олечка, которую я катал верхом на своей шее или пугал, изображая рычащего лютого зверя, от которого она, смеясь и визжа, мчалась к матери или к старшей сестре и выглядывала из-за их юбок на страшного зве¬ря.
Тогда я сознавал, что эти три девочки - сироты. У них нет и не будет папы. В доме нет мужчины. Помочь что-нибудь сделать, что не по силам женщинам, некому. И в меру своих сил и возможностей я старался быть чем-нибудь полезен и как-то уменьшить горечь их не¬счастья. Все это не было секретом и для многих взрослых, которые смотрели на это со снисхождением.
Лиля с сестренками стала часто приходить в наш дом запросто, даже когда меня не было. Моя мама полюбила этих девочек, слушала их рассказы об их отце, воспоминания их троих о недавнем прошлом. Мама понимала горе этих детей, незаметно отвлекала их, рассказыва¬ла им занимательные истории по их возрасту и неизменно угощала чем-нибудь вкусным. Несколько раз все трое брались ей что-нибудь помо¬гать по хозяйству. Моя мама много лет спустя рассказывала, что ес¬ли Женя была с ней на кухне, то Лиля и Олечка непременно брались приводить все в порядок в моей маленькой комнатке. Это, конечно, не проходило незаметно. Только не для меня и не для Лили.
Как-то оно само так устраивалось, что если я садился на ска¬мейку, то остальные подвигались, освобождая место для Лили. Если Лиля садилась на коврик, то около нее никто уже не садился, это место было мое. Само собой разумеется, мы оба принимали это, как должное.
А оформил это Лека-озорник. Как-то с лукавой улыбкой, отойдя в сторону, вслух при всех и брякнул: «Борька любит Лильку, а Лиль¬ка. любит Борьку, значит жених и невеста, ти-ли, ти-ли тесто»... После этого ему пришлось убегать, сломя голову, а Лиля, покраснев, расплакалась и тоже убежала.
Через пару дней меня все осудили за расправу и чуть было не поссорились. За всех ответил Виктор, он прямо сказал:
- Леке надо язык за зубами держать, но за правду бить нехоро¬шо. Все знают, что ты любишь Лилю, да и она тебя любит, об этом все знают и в вашей гимназии, и на нашей улице.
Делать было нечего, особенно после того, как Лиля, покраснев, сказала:
- Лека дурак, а что ты его побил - нехорошо, он правду сказал.
Я тоже покраснел.
***
Как-то после нового (недоброй памяти) года в порт зашел крей¬сер «Генерал Корнилов» (бывший Кагул). На берег были отправлены несколько парных патрулей для комендантского надзора.
В единственном кинотеатре в этот вечер шла картина «Послед¬ний аккорд» с участием Веры Колодной и других тогда известных ар¬тистов.
После окончания шли домой, делясь огромным впечатлением, ко-торое на нас произвел этот художественный фильм. Выйдя на хорошо освещенную набережную, остановились полюбоваться освещенным множе¬ством огней красавцем крейсером. Несмотря на январь, вечер был не холодный, безветренный и светлый, на берегу было много гуляющей публики, которая также любовалась крейсером, слушая красивые мело-дии духового оркестра, что играл на его борту.
Вдруг как-то внезапно, резко Лиля выдернула свою руку из мо¬ей, сильно толкнула в сторону Алешу и, истерично закричав: «Матро¬сы, папа, папочка!» - бросилась бежать в боковую улицу. Как-то сразу все оцепенели от неожиданности, все еще не понимая, что случилось... но, быстро придя в себя, я и Алеша бросились за убегавшей и что-то все еще кричавшей девочкой. Сорвавшись с места, мы толь¬ко сейчас разглядели в нескольких шагах от нас двух молоденьких матросов в бушлатах, с поясными ремнями на них, с подсумками, вин¬товками с примкнутыми. штыками на плечевых ремнях, с белыми повяз¬ками на рукавах и золотом на бескозырках: «Генерал Корнилов».
Боковыми улицами, ничего не говоря, бледную, с глазами, пол¬ными ужаса, все еще дрожавшую Лилю мы привели домой. Встретила нас у дверей ее мама, спокойно нас выслушала и увела дочь к себе наверх. Когда они ушли, бывшая тут же бабушка, тоже слыхавшая, что мы рассказывали, тяжело вздыхая, сказала:
- Одно слово «матросы» с тех пор пугает детей, а вид их, да¬же своих, производит ужасное впечатление. Ведь их папу убили мат¬росы.
***
Март 1920 года.
Закрылась предпоследняя страница вооруженной борьба Белых против красных. По улицам ходили тяжело вооруженные красные, зве¬ня и бряцая разных фасонов шпорами, в генеральских с красными от-воротами шинелях, английских френчах, рваных гимнастерках, гусар-ских шароварах, черных морских шинелях, бушлатах... Заходили в до¬ма, делали обыски, воровали, кое-где убивали, бесчинствовали, аре-стовывали, уводили...
Зашли к Эменовым. Лилина мама лежала больная. Грубо спросили, где поручик Эменов. Бабушка, открывшая им дверь, на этот вопрос сначала перекрестилась три раза, а потом ответила:
- Моя дочь очень больна, не тревожьте ее и не пугайте детей малолеток, а штаб-ротмистр Эменов на войне убит, здесь семья си¬рот, идите себе с Богом... - и закрыла двери.
А через несколько дней умерла мама Лили, Жени и Олечки.
В тихий весенний день были скромные похороны. В церкви собра-лось много соучениц Лили и Пени, и даже из старших классов. Было много мальчиков, как оказалось, братья гимназисток. Они же и помо-гали. Трогательно и тяжело было видеть и переживать все, что было на кладбище. Все плакали. Без слез нельзя было смотреть на ста¬ренькую бабушку - мать умершей, - стоявшую у открытой могилы около тела в гробу родной дочери, на прижавшихся к ней трех девочек, ее внучек.
После надгробного моления священник окропил святой водой усопшую и ее могилу, место последнего успокоения, и вдруг застыл с поднятым крестом, опустивши низко голову: батюшка горько плакал. Небольшой хор тихо запел вечную память.
Вдруг какая-то незнакомая женщина, бедно, но опрятно одетая, с далеко не простым лицом, подошла ко гробу, повернулась к детям и, показывая рукой на умершую, тихо и выразительно сказала: «По¬смотрите последний раз и запомните этот день и помните вашу маму». Она же подхватила не выдержавшую и падающую бабушку-мать. Лиля упала просто, как подкошенная, к ней бросились все стоявшие рядом, Женя, навзрыд рыдая, обняла Олечку, которая протянула ручки к гро¬бу и только повторяла: «Мама, мамочка, мама...». Какая-то девочка билась в истерике в руках взрослых, уводивших ее от могилы, все в время крича: «Зачем так, это жестоко, нехорошо, нельзя так»... и что-то еще.
Мальчики быстро положили крышку на гроб, и какой-то человек молотком быстро забил уже приготовленные гвозди... Эти удары... не слышать бы их никогда...
Это ужасное событие еще больше усилило внимание со стороны очень многих к этой совсем осиротевшей семье первопоходника.
***
Весна 1921 года.
Занятия в «школе» прекратились. Прекратила свое существование к наша гимназия, которая стала называться почему-то «Совтрудшкола». Не стало «Шкрабов» (школьных работников), сиречь учителей.
Почти два года проучился я с девочками, эти годы оставили свой отпечаток на характере и поведении. Еще до определения меня в женскую гимназию я был приучен сначала в семье, потом в гимназии Цесаревича к аккуратности, личной дисциплине, гигиене, вежливости и просто элементарным правилам приличия. Находясь в силу сложивших-ся обстоятельств среди девочек и девушек, повторяю, почти два го¬да, я выработал в себе особую выдержанность, предупредительность, подтянутость и даже некоторое рыцарство, проявлявшееся иногда в защите девочек от хулиганов, а то и просто от других озорниц.
В задушевных беседах в свободное от занятий время девушки ча¬сто и откровенно говорили, что им нравится в мальчиках и что не нравится, о своих сокровенных желаниях, мечтах, в которых часто было много фантазии, причем очень красивой фантазии (не в пример нынешним).
Откровенен был с ними и я, сходились вкусы, мнения, оформля¬лись дружеские отношения до того, что я бывал во многих домах сво¬их соучениц, как «подруга-товарищ», - и только. Ибо в сердце моем место было занято Лилей, дочерью первопоходника, и это знали все.
Были и некоторые неудобства. Например, часто бывало, что вдруг мне говорили: «повернись и не оборачивайся» или: «закрой глаза», а то и просто бесцеремонно даже и Лиля подходила сзади и пальцами обеих рук закрывала мне глаза и уши, приговаривая: «тебе этого слышать и видеть нельзя». Если я возражал, настаивал на ра¬венстве, то мне говорили: «все-таки ты мужчина». И я успокаивался и был доволен этим признанием.
Самые милые беседы происходили в доме осиротевших девочек. Часто вечерами, на их тахте, они наперебой рассказывали многое, что помнили о своих маме и папе, о том, как они когда-то жили где-то далеко на Кавказе. Об этом всегда со счастливой улыбкой вспоми¬нала Лиля, кое-что помнила и Женя, все вместе с горячей детской любовью вспоминали о многом милом, проведенном вместе с папой, ко¬гда он был ранен, о том, как мама читала им письма папы и расска¬зывала им много интересного о нем и о себе, и о бабушке, и о дедуш¬ке, которого дети не помнили, но о котором много знали. Лиля всег¬да с гордостью говорила, что он, дедушка, был тоже офицер, такой, как папа и даже старше. Забравшись с ногами на тахту, уютно устро¬ившись, она говорила, сестренки с сугубым вниманием смотрели ей в рот, иногда что-то дополняя или спрашивая. В эти милые досуги я был весь внимание и был всегда хорошим слушателем. Я понимал их, особенно Лилю, я знал, что у нее было много подруг, но не было ни одной особенно близкой. В том положении, когда не было родителей, и особенно матери, она переживала какое-то одиночество, одиночест¬во без особо близкой души, с кем можно было бы поделиться. Бабушка была старенькая, сестры были молоденькие. Я это чувствовал, знал, понимал и стал - вернее, делал все возможное, чтобы стать - «под¬ругой-товарищем», а вернее личным другом. Лиля это видела и цени¬ла.
***
И ВОТ СВЕРШИЛОСЬ...
«И как развенчанный герой,
С которого корона пала,
Все увлекая за собой,
Упал ты звонко с пьедестала...»
Свершилось то, чего мы часто и не ожидаем. Нелепо и безжалост¬но было смято все. Нежные лепестки трогательной, чистой и распус-тившейся любви были оборваны и брошены... по моей оплошности.
Была осень 1921 года.
Так же улетали в теплые страны журавли, по ночам был слышен гогот гусиных косяков, опадали пожелтевшие листья, мрачнело море, и вокруг всего этого - полная разруха всего и везде. Начинался го¬лод, безработица, бесправие всех перед грубой нерусской силой.
Совершенно случайно, в доме одной из моих соучениц, отец ее, который был инженер-механиком и в настоящее время работал старшим механиком на парусно-моторной шхуне, узнав, что я ищу работу, пред-ложил мне службу на этой же шхуне в машинном отделении, вместе с ним. Обязанности несложные - быть судовым юнгой, главным образом, помогать ему, а там видно будет. Условия заманчивые: одежда, пита¬ние, деньги, на берегу в морском магазине по мореходной книжке соответствующий паек.
Согласие дал, конечно, с радостью. Во-первых, в семье чувст¬вовался некоторый недостаток, во-вторых в глазах замелькал мир приключений, чужие неведомые берега, страшные бури и тому подобное, что помещается в голове пятнадцатилетнего юноши.
Шхуна уходит в рейс послезавтра в десять часов утра. К вось¬ми надо быть уже на пристани, готовым к работе на ней. В этот же день Василий Иванович, как звали отца моей соученицы, в управлении военного порта все и оформил, так как ему было дано капитаном суд¬на право найти себе в машинное отделение смазчика и юнгу для раз¬ных работ.
Родители, видя решимость, с какой я стал собираться, отпусти¬ли меня. Кроме того, была неожиданная возможность побывать во мно¬гих портах Черного моря, где я мог повидать многих знакомых и уз¬нать о судьбе родных и близких, которые ушли с конницей по берегу во время оставления Белой армией Черноморского побережья.
Лиля лежала в больнице, заболела сыпным тифом. Женя и Олечка тоже были больны, и бабушка не позволяла их навещать, все же на другой день я и еще несколько девочек и мальчиков пошли в больни¬цу. В середину нас не пустили. Я взобрался по стене к окну, кото¬рое мне указала сестра. На кровати у стенки я увидел ее стриженую голову и до неузнаваемости похудевшее лицо. Помахал ей рукой с воздушными поцелуями, на ее лице было какое-то подобие улыбки.
А через двадцать четыре часа я был уже в море, знакомился и осваивался со своими новыми обязанностями. Наука смазывания частей и заливки масла в подшипники нефтяного двигателя «Болиндер», а также надраивания его медных и стальных частей - была несложная, как и другие обязанности юнги, вроде чистки днем ламп ходовых ог¬ней, заливки в них керосина, заправки фитилей, а с заходом солнца - зажигание их и укрепление в положенных местах всего судна, убор¬ка машинного отделения и многое другое.
Надо сказать, что я был немало смущен, когда в первый день, вступив с Василием Ивановичем на борт шхуны, увидал матросов в по-лосатых тельняшках, в форменках, бушлатах военного флота, с беско-зырками на головах, на которых по георгиевским лептам было отштам-повано: «Свободная Россия», «Кагул», «Бесстрашный», «Буревестник», «Три Святителя» и другие; было несколько черных лент с надписями «Слава», «Свобода», «Гвардейский экипаж» и еще что-то.
Через несколько дней, в Сухуме уже, боцман выдал мне полный комплект белья и такого же, как и у всех, обмундирования по моему росту. Была выдана и бескозырка с георгиевскими лентами, на кото¬рой было «Двенадцать апостолов», а потом заменили на «Черноморский флот». Любопытно знать, что в то время весь «Черноморский флот» новой власти состоял из нашей шхуны и еще двух таких же однотипных.
Так я стал матросом.
Плавание между портами Черного моря требует особого описания. Откровенно говоря, мир, в котором я очутился и пробыл сравнительно долгое время, затмил понятие, бывшее дотоле о мире приключений. Были бури, были дни полного штиля, было холодно, было жарко, было голодно, было всласть, было не приведи Господи как страшно, когда отпетые «краса и гордость революции» очутившись не у дел, под буш-латами крестились, а кое-кто, вроде в шутку, Николу-покровителя на помощь призывал, когда шхуну с носа накрывал весь в пене от злобы очередной шквал с свистящим ветром, гнавший не брызги, а це¬лые каскады воды по всей палубе до самой кормы, а все крепление жалобно скрипело и стонало, готовое дать гибельное расхождение «по всем швам* - тогда беда.
Но Бог миловал этих «озорников», а вместе с ними и меня.
Старый боцман, попивая чаек в носовом кубрике, усмехаясь го-ворил:
- Не дрейфь, братишки! Посудина при царе строена, выдержит!
Реплик не было.
За год почти плавания я повидал много людей на берегах, мно¬гое узнал от них о тех, от которых родные и близкие ждали хоть ка¬кой-нибудь весточки. И это плавание лично мне принесло несчастье.
Долго я не был дома. И когда наша шхуна подходила к нашей га-вани, на берегу было начало ранней весны 1922 года, наливались почки на деревьях, зеленела травка на горах, появлялись первые подснежники, в кустах щебетали стаи птиц, все так же светило и со¬гревало солнце рождающуюся весну, но была угрюмость на лицах людей. Новые, неведомые дотоле времена вступали в свои права.
Заработанные тяжелым трудом деньги, паек и кое-что, привезен¬ное из «дальних краев», помогли семье скрасить «новые времена», а привезенные, залитые в разных местах бушлата «весточки» доставили радость нескольким семьям, в том числе и нашей семье, и сделали еще более радостным приближающееся Светлое Воскресенье.
С радостным чувством исполнения чего-то хорошего я пошел к Эменовым.
Был ранний вечер. Поднялся по ступенькам на всегда открытую веранду с еще большим, вспыхнувшим чувством радости от предстоя¬щей встречи после многих дней и ночей - пережитых, передуманных и наконец понятых. Обо всем я горел желанием поскорей рассказать Лиле и моим маленьким сестренкам, как я уже про себя называл Женю и Олечку.
Им всем я принес большую коробку, содержание которой тогда было «на вес золота» - были там и сладости, и красивые вещи из Грузии и Аджарии.
Первую я увидел сидящую за столиком Олечку. Поставив коробку на пол, к ней я протянул руки... Девочка повернула головку и, как бы не узнавая меня, страшно закричала, соскочила со стула и бросилась к двери в гостиную, из которой выбежала Лиля. Я только успел рассмотреть несколько отросшие волосы на ее голове, «как у мальчика», худенькое лицо... Она успела на пороге подхватить чуть не упавшую, кричащую Олечку. Сделав еще один шаг, я прирос к полу веранды от всего того, что вдруг случилось...
Я никогда не забуду посветлевшего лица Лили, готового к улыбке и даже радости (об этом я узнал много позже), но вдруг все сбежало с лица после того, как взор ее на несколько секунд остановился на мне. Ее лицо побледнело, глаза сделались огромными, как-то дернулся ее маленький рот, еще крепче ее маленькие руки прижали к себе Олечку, она стала пятиться к двери, и вдруг из ее груди вы¬рвался не крик, а стон, похожий на вопль страшной боли.
- Мамочка, мама, матросы, папа, бабушка... - и бросилась вглубь квартиры. Уже в дверях я увидал, как маленькая Олечка об¬хватила ручками шею сестры и что-то тоже закричала, кажется, не¬что похожее на «метлосы»...
Я буквально остолбенел... и вдруг вспомнил глубокую осень 1919 года, берег, нашу гавань, в ней крейсер «Генерал Корнилов» и такой же страшный истеричный крик «Матросы!...», и так же стояв¬ших в недоумении двух корабельных гардемарин, патрульных комен¬дантского надзора.
Из дверей кухни выбежала Женя. При виде меня она, очевидно, сразу же поняла причину крика Лили и Оли и тоже опешила и дрожащими губами, с испуганным лицом, только и сказала: «Уходи из нашего дома...» - и исчезла за дверьми.
Я был просто уничтожен. Оглядев себя, я вдруг понял свою страшную оплошность - ведь я пришел в ненавистной этой семье мат-росской одежде, в одежде убийц отца этих трех детей-сирот.
Тогда никто, кроме моих родителей и самых близких, не знал, что так надо было, это была ведь совершенно случайно подвернувшаяся возможность найти, узнать что-либо о пропавших без вести. Уз¬нать о судьбе многих, о ком душой болели близкие им люди. Тогда об этом откровенно говорить, даже в среде своего круга людей, бы¬ло уже нельзя, ибо это было бы смерти подобно для многих. И все же Лиле я бы рассказал, но она тогда была больна, потом я ее не видал, а сейчас, когда я к ней пришел, я рассказал бы все от начала до сегодняшнего дня, но... не только слушать, но и видеть меня она не хотела, не могла. Перед нею был матрос. Все это стало так понятно мне. И было поздно.
Вышла бабушка. Посмотрела на меня, на мое растерянное лицо и только сказала:
- Идите себе с Богом и не пугайте детей.
Я ушел, поняв, что сейчас не время для объяснений. Да и, при-знаться, я сам был близок к истерике или готов был расплакаться самым горьким образом.
***
Недоразумение выяснилось лишь только через год. Тогда, когда Лиля стала невестой...
«И вот свершилось, ты уже чужая,
И мы должны расстаться навсегда...»
В то время мы уже жили далеко за городом, ведя трудную жизнь в борьбе за бытие и существование, полное невзгод и частых непри-ятностей.
Как-то случайно встретились, и Лиля сама мне рассказала, как «девочки в тот вечер, успокоившись около бабушки, решили, что пусть он эту одежду снимет, оденется, как раньше, и пусть прихо¬дит».
Вернувшись домой, одежду я снял, оделся, как раньше, но не пошел. Все переживал случившееся, думал... на другой день была страшная гроза с ураганным ветром, сильным ливнем. Никто из домов не выходил.
А еще день спустя, при стихшей погоде наша шхуна ушла в но¬вый рейс. Так разошлись наши пути, и разными дорогами пошли маль¬чик-гимназист и девочка, дочь первопоходника.
Нелепо? А разве мало нелепостей лежит на наших путях? Ох, как много!
***
Через много лет наши пути случайно скрестились. Взрослые лю¬ди дружески встретились и встрече были рады. О многом друг другу поведали... И Лиля вкратце рассказала.
«Смерть папы в восемнадцатом году, которого мы так любили, была для нас большим горем. Смерть мамы была для нас троих и ба¬бушки еще большим горем, и если бы не участие и помощь окружающих нас тогда людей, нам было бы очень тяжело... Наконец, мальчик-гим¬назист, который был нам очень близок, которого Женя и Олечка со¬всем уж считали своим братом... вдруг стал... матросы. Что скры¬вать? Для нас это было тоже очередным горем, а для меня особенно.
Ведь эта форма, вид приводили нас в неописуемый ужас - они ведь папу убили, а потому и наша мама так рано умерла.
А потом «матросик» уплыл и больше никогда не вернулся к нам. В конце 1923 года к нам опять приехал тот офицер, который в 1919 году на Пасху привез страшную весть о смерти нашего папы. С ним был его сын, бывший юнкер инженерного училища. Работал техником на каком-то заводе, хорошо воспитанный, милый молодой человек. Стал у нас часто бывать, мы к нему привыкли. Его отец вынужден был уехать, он остался одинок в нашем городе. Через несколько ме¬сяцев я стала его женой.
Горе настигло меня опять. Через несколько лет не стало мужа. Однажды в обычное время он не пришел домой. В те времена такие, как он, часто домой не приходили и исчезали навсегда.
Остался сын, надо его растить, хорошо учится. Я работаю в конторе управления порта. Леня замужем. Олечка живет у нее, кончает школу среднего образования. Напишу им о нашей встрече, будут рады, тебя ведь часто вспоминали.»
Многое вспомнили. На прощанье пожали друг другу руки, пожела¬ли благополучия и расстались навсегда.
Жизнь ее, дочери первопоходника, сложилась трагично и печаль-но»...
***
Бывший гимназист Цесаревича умолк. Поднялся и только сказал:
- Пожалуйста, не задавайте мне никаких вопросов, я страшно устал. Если хотите, опишите, пусть это будет моим маленьким вен¬ком на могилы тех, кого уже нет в живых.»
Как мог, как умел, как запомнил - я все записал. А написав, прочел «Реквием» Анны Ахматовой и подумал: «Какое ужасное испыта¬ние легло на плечи беззащитного, ни в чем не виновного поколения русских людей!»
За что?
|