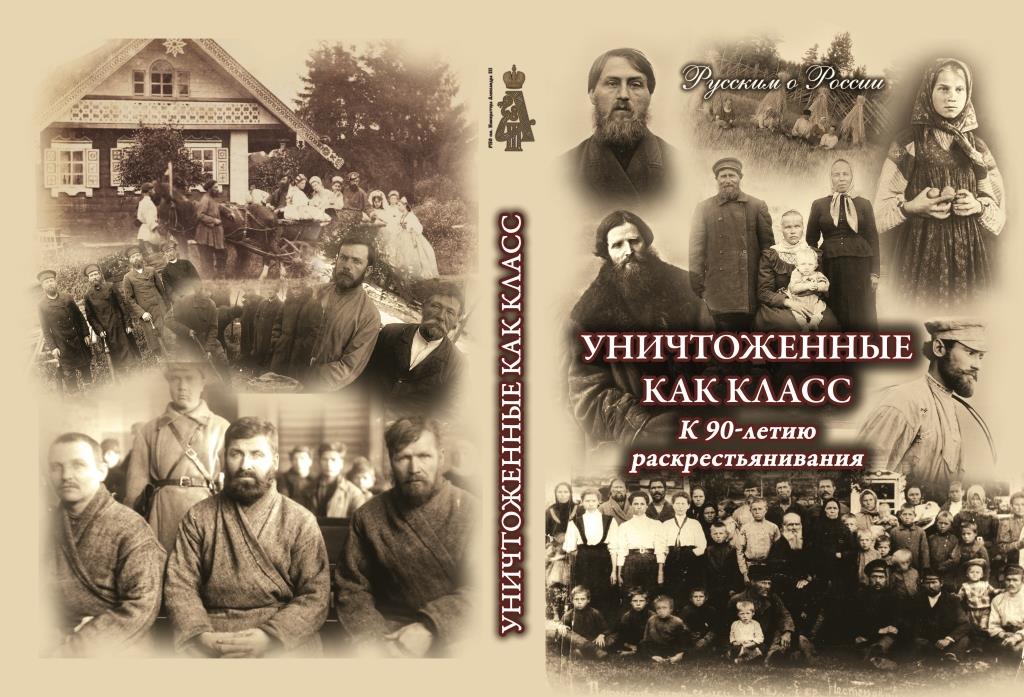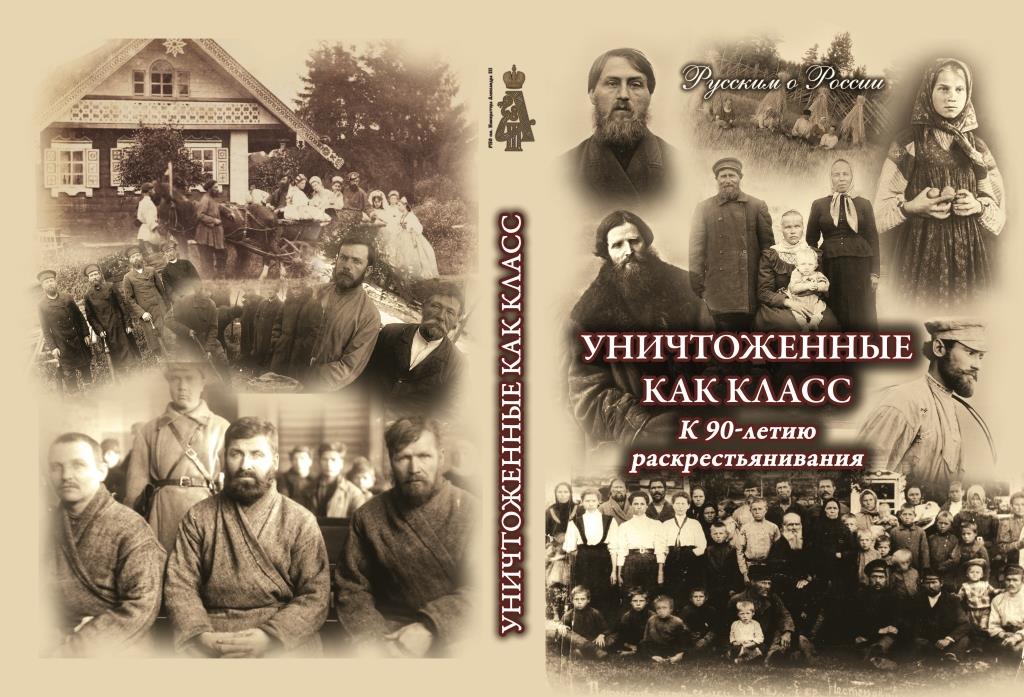
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/
Последние могикане
Но самую грустную, нелепую по своей жестокости сцену наблюдала я уже где-то в Рубцовской области.
Пришла я в большое село, домики которого разбежались по довольно-таки крутым берегам небольшой речушки. Выспалась я превосходно в каком-то овине: погода была теплая и за летние короткие ночи земля не успевала остыть. Не спеша помывшись, «причепурившись» и обувшись (в пути я сапоги сбрасывала и шагала босиком), собиралась хорошо позавтракать.
Была я очень богатой: проработав три дня на прополке картошки и гороха (в тех краях их сажали вместе: картошку - под лопату, а затем в гнездо втыкали по три горошины, и горох как бы лежал на картофельной ботве), я получила - неслыханная роскошь! - целую торбочку пшена, пережаренного с постным маслом. Горсть этого пшена, брошенная в мой кофейник, - и готов превосходный суп. Но на сей раз я захотела сварить настоящий кулеш - в настоящем котелке, на настоящем огне.
Окинув критическим взглядом всю деревню, я остановила свой выбор на полуразвалившейся избе. Она стояла в центре села, близ места, где угадывалась стоявшая здесь в прошлом церковь. Казалось, изба заболела проказой и все другие избы отшатнулись от нее в страхе. И стояла она, одинокая, на голом месте, заживо распадаясь. Половина пятистенной избы отсутствовала, оставшаяся же половина выглядела странно: окна с резными наличниками и почти без стекол, венцы из кондового леса и крыша из провалившегося гнилого теса и еще более гнилой соломы.
«Наверное, там живет какой-нибудь старичок-бобыль, - подумала я, вспоминая «пророка». - Он не станет допытываться!»
Я ошиблась. Но об ошибке не жалею. Я осталась голодной, хотя могла бы еще дня 4 быть сытой. Но и об этом не жалею. Знакомство с обитателями этой избы приоткрыло завесу над еще одной стороной советской действительности тех времен, которую иначе я могла бы и не заметить.
Подходя к избе, я услышала, что за стеной кто-то плакал и несколько голосов о чем-то спорили или жаловались. Желая оставить за собой возможность ретироваться, я тихонько подошла и встала за углом.
Ближе всего от меня стояла девушка-подросток, с материнской лаской обнимавшая за плечи худосочного мальчика лет 14-15. На завалинке сидела, сгорбившись, старуха, зажав меж колен руки и низко опустив голову. Рядом с ней сидела девушка и, оживленно жестикулируя, говорила:
- Не надо было! Вовсе не надо было ходить! Когда на наряде Пантелеич, то ходить - лишь себя позорить! Ох, горюшко! Хоть бы умереть! Атак - хуже смерти!
Стоя в дверях, тихо плакала еще одна девушка. Обе девушки были уже немолоды, а на то, что они не замужем, указывали по-девичьи повязанные платки.
Против них стоял парень лет двадцати - высокий, красивый, но очень худой. Он в чем-то оправдывался:
- Может, и взяли бы? Я ж не о себе думаю, а о вас! Легко мне, что ли, глядеть, как вы все пропадаете?
Я шагнула вперед и, сбрасывая на землю свой рюкзак, низко поклонилась со словами:
- Слава Иисусу Христу!
- Во веки веков, аминь! - сказала «старуха», подымая голову, и я заметила, что она вовсе не старая еще, но очень измождена голодом и заботой.
- Вы, я вижу, голодны. Я тоже. Вот здесь у меня есть немного пшена. Сварите из него похлебку и поснедаем, что Бог послал!
Не знаю, что побудило меня отдать весь мой драгоценный запас. Но мне показалось, что чей-то до боли знакомый голос мне прошептал: «Помогай! И Бог тебе поможет!»
Вот, вкратце, что я узнала.
Когда в океане происходит землетрясение, то кораблю нет дела до его эпицентра: реальная опасность - это цунами. Жители этого медвежьего угла не слишком вникали в то, какие последствия будет иметь для них революция. Была война. Это - плохо. Окончилась война. Это - хорошо. Не стало батюшки-царя... Не поймешь, плохо это или хорошо? Гражданская война их и вовсе не коснулась. Изменились некоторые названия властей, но жизненный уклад остался тот же, основанный на почитании старших. Прежде все было проще, понятней: в семье - отец, в стране царь, а над ними над всеми Бог. У царя и у Бога было много посредников, плохих или хороших, но от них всегда можно было держаться в стороне. Самая же реальная власть - это был отец, хозяин.
Но вот в начале тридцатых годов и до них докатилась волна-цунами: началась коллективизация. Судна, успевшие поднять якоря и отдаться на волю волн, могли уцелеть. Крепко цеплялся якорем за родную, надежную землю хозяин - свекор; ни в чем не уступал ему в этом и сын - муж женщины, рассказывавшей мне об этом. «Пусть беднота вступает в колхоз, а я на своем хозяйстве своей головой думать хочу! И своими силами справлюсь!»
Захлестнула его волна-цунами, швырнула на скалы, разбила в щепы все его благосостояние. Но - не сразу. Сперва его взяли за горло, душа всякого рода налогами, разверсткой, поборами... Потом подошел 33-й голодный год. Ему бы смириться, сдаться... Не захотел упрямый старик: «Пройдет лихая година! Распадется нелепая затея, развалится! А настоящий хозяин на колени не станет!»
В чем была его вина, я так и не поняла. Но вот однажды вызвали его в сельсовет и домой он больше не вернулся. Говорят, в Рубцовку его угнали, а где он помер и как - об этом один Бог и знает. Не то сердце у него лопнуло, не то пристрелили «при попытке бежать».
Дело было весной. Надо было сеять. А тут пришли и описали за налог все: семена, лошадей, инвентарь. Оставили одну корову, и то яловую, а потребовали уплатить поставку: молоко, мясо, полкожи... Кинулся мужик в правление - проситься в колхоз. Не тут-то было! Не нужны, дескать, пережитки прошлого.
Чего только в те годы не пришлось повидать! Кто был подогадливей, тот сразу собрался с семьей и уехал куда глаза глядят. Иные семью бросили - бабу, мол, и ребят, авось, пощадят, - а сами скрылись. Может, где-нибудь живут, а может, и сгинули? Других среди ночи похватали и вывезли куда-то. Иных - со стариками и детьми; иных - лишь тех, кто в силе.
Ее мужик покорный: тише воды, ниже травы. Уж как он старался! День и ночь работал. Семья - голодом сидела... Все отдавал в счет поставок. Но пришел 37-й страшный год. Не помогла покорность, не помогло молчание. Взяли его среди ночи. Взяли, да не одного, а со старшим сыном Кешей. Говорят, здесь же, за селом, обоих и порешили. А где закопали - Бог весть! И попрощаться не дали.
- Осталась я с пятью ребятами, - продолжала женщина свой рассказ. - Старшей девахе, Панке, 19 лет было. Невеста! Да где уж, пять лет с той поры прошло... Не жизнь, а мучение горькое! Живем как зачумленные. Не то чтобы девок замуж взять - а девки все трое и работящи, и пригожи, - но слова сказать им боятся. А может, брезгают. За сына Васятку так сердце и болит-замирает. Ему уже 19 лет. Ведь подумать: я мать, а хотела бы, чтобы его в армию забрали! С войны все же ворочаются иногда, а «оттуда» нет возврата. Нет, не берут. «Репрессированный», говорят. Это значит - опасный, вроде заразный! И так повелось, что всякий над нами измывается. Вроде чтобы другим, глядя на нас, страшно стало. Только и ждешь, какую новую казнь для нас выдумают? Идти никуда нельзя, ремеслом каким заняться - запрещено. Даже пустырь вокруг дома - гляди, какой большой, а картошку, и ту сажать не смей! Выделили нам одну десятину - верст за 20 в степу. Кругом луга, выпас: колхозная ферма там. Вот эту десятину мы обработать должны: вскопать лопатой, засеять и государству 60 пудов пшеницы сдать. А скотина там пасется - все вытопчет. Жить при той десятине не разрешают и бросить ее не смей! Копай, сей и покупай 60 пудов хлеба - отдай государству. А есть нам чего-то надо? Ни картошки, ни репы, ни зернышка. Крапиву сваришь, истолчешь, даже подсолить нечем. Лебеда - она с отрубями ничего бы, да и отрубей-то нет. Вот, как утро, идут дети, все пятеро, на колхозный двор, на работу просятся. Ведь даром работать - и то рады! Все хоть похлебки дадут или обрату и хлеба грамм триста. Народу мало, работать некому, а брать их все равно не хотят! Постоят, постоят и домой вернутся, плачут с голоду. А мне, матери, каково на это смотреть?
Нет, мне не жаль было, что я отдала им то пшено, которого мне хватило бы еще на несколько дней! Последние могикане - недобитые единоличники... С какой продуманной жестокостью мстили тем, кто был лучшим сыном своей земли - крестьянином!
Не раз и не два встречалась я с этими отчаявшимися людьми, которым не давали ни жить, ни умереть и которых держали как бы другим в устрашение.
Каждый раз удивлялась я той изобретательности, с которой их подвергали пытке. Ни одна семья не была в полном составе, так как вместе им все же было бы легче. Не всех мужчин забирали сразу, так как пытка страхом - ожидание неизбежной беды - вдвойне мучительна. У них не отбирали все сразу, так как с каждой потерей они могли страдать снова и снова, могли надеяться и вновь терять надежду, и каждый раз вновь отчаиваться.
Последовательность и дозировка издевательств обладала довольно широким диапазоном, но результат был один и тот же: физическая гибель после длительной моральной агонии.
Кто этого не видал, тот не поверит, как никто в Европе не верил ужасам голода 1933 года, террору 1937 года, раскулачиванию и ссылкам, начавшимся в конце двадцатых годов, испытанных нами в 1941 году и конца которым никто не мог предсказать!
Оптимистическая старуха Логинова
Забегая вперед, расскажу еще одну историю недобитой единоличницы. Услышала я ее уже в неволе. Я как-то не заметила, когда именно привели Логинову в камеру. Признаюсь, первое впечатление было скорее неблагоприятным: как можно шутить и балагурить, когда за твоей спиной захлопнулась тюремная дверь и ты потерял свободу?
Но вскоре я заметила, что ее бесшабашность не что иное, как маскировка: что-то в ее глазах выдавало затаенное, безнадежное горе. Говорить по душам можно только с глазу на глаз, что довольно затруднительно, когда в маленькую комнатушку втиснуто 12 человек! И все же она рассказала мне свою историю. Обычную. И ужасную - для того, кто еще слишком европеец и не привык к тому, что стало обычным и признается нормальным, почти законным.
Вот ее рассказ:
«В школу мы не ходили, книг-газет не читали, и казалось нам, что в жизни все просто, все понятно: есть земля - мать и кормилица наша; есть хлебопашец -хозяин и слуга этой земли. Не всходить солнцу с запада, не жить мужику без своей земли, которой он всю жизнь свою посвятил и которая снабжала его всем, что было нужно ему, его семье и скотинке его. Словом, все хозяйство. И вдруг - колхоз... Да чья же это затея?
Кто первый пошел в колхоз? Голь, пришлый люд - те, кто никогда хозяином не был. И кому терять было нечего. За ними многие потянулись. Было это тогда, когда стали выселять и угонять невесть куда тех, кто показался властям подозрительным.
- Лучше в колхоз, - рассуждали, - чем в нарымские болота!
Но это от нечистого можно отчураться! А нам, крепким хозяевам, пощады не вышло.
Мой мужик с германской войны не вернулся. Жила я при сыне. Вот его-то, беднягу, и угнали однажды ночью. Угнали с семьей - женой и тремя ребятами, а меня, сама не знаю почему, оставили: живи как знаешь, только налог плати и поставки все справляй. А налоги, как снежный ком! Где тут выполнить было, чтобы единоличник мог уплатить налог! Нужны были им единоличники как бы для острастки: вот, мол, какая кара ждет тех, кто вовремя не подчинился! И тут уж изощрялись! Откуда только выдумка у них бралась?
Умереть я хотела. Да Бог смерти не давал... Казалось, хуже быть не может. ан не тут-то было! Филипповский пост уж к концу подходил - постучалась ко мне старуха нищенка с узлом в руках. Глянула я, да так замертво и свалилась... Сноха это моя из ссылки домой добрела. С дитем - дочкой Надей. Не столько с ее слов - говорить она почитай что и не могла, только зубами лязгала, - а все же поняла я, что сын и оба внука там, в тех болотах. Ох, Господи, пошто караешь? Так и не оклемалась сноха. Да с чего бы ей было поправиться? Изба не топлена. Не то что хлеба - картошки, и той не было!
То есть была у меня картошка. Двор я перекопала, глазки всю зиму собирала - с картошки вершок и донышко срезала, золой пересыпала - для семян. Так значит, была картошка. Осенью, как я ее выкопала, должна была колхозному правлению отдать их долю - три кучи, а четвертую - себе. Я поделила:
- Приходите, выбирайте! Я вашу долю вам снесу, а тогда и свою приберу.
Иначе не имею я права ее трогать, ни Боже мой! Так нет, не выбирают! Я что ни день плачу:
- Разрешите хоть в горницу перетащить!
- Нет! Не смеешь трогать!
Ударили морозы - перемерзла вся картошка. Тогда и говорят:
- Купи три кучи хорошей картошки и сдай. Мороженая нам не нужна!
И что ты думаешь? Купила, отдала... Все, что в сундуке было, даже смертную сорочку и ту продала, чтобы расплатиться за картоху. А тут потеплело. Картошка размерзлась, потекла, прокисла и протухла. Тем и питалась. И не одна - овечку держала и трех куриц.
Да, не дожила до весны сноха, после Крещенья померла. Осталась я с внучкой Надюшей. Уж как я жалела сиротинку! Больше жизни ее любила. Такая она ласковая да приятная, будто самим Богом мне на утешение. Как ее живой сноха донесла? Как она выжила - без хлеба, без молока? На одной гнилой картошке, да изредка яичко.
Однако перезимовали. Оягнилась овечка, куры нестись стали. Крапива молодая пошла. Сварю крапивы, натолку с картошкой (зимой, пока она еще мерзлая была, я ее варила, чистила и сушила; дров не было, так я по межам бурьян ломала, им и топила!), - Надюше яичко добавлю.
Расцвела сиротка, что вешний цвет! Румяная да голубоглазая - вся в отца удалась! Волосенки что колечки золотые! Глядишь - не наглядишься! Но недолго мы радовались. После Пасхи уже пришли изверги. Забрали овечку и двух кур. Третья каким-то чудом уцелела - недоглядели! Ох, горе горькое!
Огород я вскопала, да посадить было нечего: мерзлая картошка ростков не дает. Думала я, променяю овечку на семенную картошку. Только обстричь бы ее до того - Надюше носочки вывязать иль еще чего...
Вот и остались мы ни с чем: мы с Надюшей да курица Пеструшка. Так что ты думаешь? Подсмотрели, что курица одна осталась, пришли и за ней. Хошь верь, хошь не верь, но и смеялись же мы! Пришли - чуть не весь сельсовет, да еще с понятыми.
- Давай курицу! - говорят.
- Берите, - говорю, что тут скажешь?
И пошла тут потеха! Семеро ражих мужиков гоняются по бурьянам за одной курицей! Испугалась Надя, за мою юбку уцепилась.
- Маманя! - кричит.
Она меня после смерти матери «маманей» звать стала, видно, легче дитяте на свете жить, если это слово хоть кому сказать может.
- Маманя, спасай Пеструшку!
- Не плачь, дитятко, не плачь! Пеструшку все равно кормить нечем: ей там, в сельсовете, лучше будет.
Успокоилась девочка, смотрит, да как засмеется! Гляжу - и впрямь от смеха не удержаться: бурьян вырос густой да высокий. Канав, рытвин не видать. Пеструшка - поджарая, проворная - никак им в руки не дается! Мужики спотыкаются, падают, а курица, как змей, среди них вьется!
Однако поймали. Не стало и яичка, чтобы крапиву толченую сдобрить. А там вскоре и повестка пришла: поставку сдать - яйца, шерсть. Всегда я все выплачивала. Покупала и отдавала. Голодала, из кожи лезла. Но тут уж нечего было из дому несть продавать, не смогла я выплатить поставку эту - шерсть и яйца. Не помогли слезы, не пожалели и ребенка... Обвинили меня в саботаже - статья 58-14, и вот я здесь. Эх! Так оно и лучше! Чего горевать-то: Надюшу в детдом отправили, меня в тюрьму. Каждый день кусок хлеба дают - 350 грамм. И кипяток. У себя я хлеба уже с каких пор не видала! И Надюша хлеб получит. Пусть горький, но каждый день. Так лучше... И для нее, и для меня. Только горько подумать, что ласки она не узнает. Отца-мать, а потом и меня, старуху, сперва позабудет, а затем и возненавидит. Научат ее, мою кровинушку, на Сталина молиться, а родных своих ненавидеть. Ох, горько мне, горько...»
Когда Логинова начала свой рассказ, все спали валетом, и то полусидя, так как было невероятно тесно. Но не сладок и не крепок сон на тюремном полу! Все проснулись и постепенно придвинулись к порогу, где на параше сидела рассказчица и рядом с нею - я.
Тускло светила мигалка, все вздыхали. Каждый думал о своем горе, но воздух камеры был пропитан общим горем. Оно было всюду. И - во всем.
- Эх, бабоньки, - встрепенулась Логинова, - нечего грустить. Двум смертям не бывать, а тюрьмы не миновать. Давайте лучше вспоминать, как мы замуж выходили, как первую ночь с мужем проводили. Только чур всю правду! Без утайки!
И, не ожидая приглашения, она первая начала свои «воспоминания», пересыпая и без того разухабистый рассказ весьма солеными шутками и прибаутками. А в глазах затаилась тоска: «Надюша, дитятко родное, кровинушка моя последняя...»
История литовской Ниобеи
Я воспоминала о тех нескольких кошмарных днях, проведенных в камере предварительного заключения, где на меня обрушилось столько новых впечатлений, столько горя разных сортов, что я, видя чужие страдания и выслушивая горестную повесть каждой из этих несчастных, измученных, одичавших от нужды и отчаяния женщин, забывала о себе.
Ни одним словом не обменялась я с той литовской женщиной, не знающей русского языка и не понимающей, за что ее сюда пригнали. Боюсь, что горе настолько помрачило ее рассудок, что она и родного языка не поняла бы. Я не узнала, а может быть, просто забыла ее имя. Ее историю рассказали местные женщины, среди которых она жила.
Ее мужа, отца ее пятерых детей, забрали, и куда он делся, этого не знала ни она, ни тысячи и тысячи женщин, которых так же разлучили, разметав семью, как полову. Отправили ее с детьми в один из здешних колхозов. Она работала, как местные колхозницы, на равных с ними правах, то есть не получая ничего - ни грамма - на трудодень. Но местные жители имели хоть какие-то приусадебные огороды или коровенку, а она? Лично ее на работе «кормили», давая 400 граммов хлеба и пустую похлебку, но дома умирали с голоду пятеро малышей!
Мать пыталась накормить своих детей: она насыпала в чулки несколько горстей ячменя, чтобы сварить им кашу. Ее поймали, посадили и предъявили обвинение в хищении государственного имущества по закону от 7 августа 1932 года.
Мать посадили в КПЗ, а дети заболели скарлатиной. На что можно было надеяться, учитывая их крайнее истощение и отсутствие ухода! Кому нужны чужие сироты на фоне всеобщей нужды, голода? Больше того, у хозяев, к которым их подселили, тоже были дети... А поэтому заболевших детей лишили и крыши над головой. Переселили их в какой-то шалаш. Каждый день один из них умирал. Матери это сообщали. У нее не было сил, чтобы оплакивать того, кто уже умер. Она с ужасом ждала известия о смерти следующего, гадала, кто на очереди, и была бессильна хоть прижать к груди умирающего в безумной надежде укрыть его от смерти!
Не знаю, как сумела она спрятать и пронести с собой нательный крестик, вырезанный из кости. Никогда не забуду я ее безумные глаза, то отчаяние, с которым она сжимала в руках крестик и шептала бескровными губами то ли имена детей, то ли молитву, а может быть, проклятье их палачам?
Безжалостны были Аполлон и Диана, убивая одного за другим всех детей Ниобеи за то, что она оскорбила мать Аполлона и Дианы, но они обратили ее в камень - и страдания для нее были окончены.
А эта несчастная литвинка осталась жива. Кого же оскорбила она, взяв горсть ячменя для своих голодных детей?
О многом думала я, лежа на железной койке в темноте, слушая шорох и возню крыс. И поняла, что на фоне горя тех, кто бессилен помочь своим погибающим в страданиях близким, я счастлива, так как страдаю одна.
С улицы - Пушкин, со двора - Бенкендорф
«Выходи с вещами!» Когда слышишь эти слова, невольно сердце вздрагивает. Может быть, на свободу? Мы шагаем по городу, направляясь, по всей видимости, к его центру. «Улица Пушкина». От этого имени на душе становится тепло. Поэт мужественный, честный. Невольно шепчу:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые в нем лирой пробуждал,
Что в наш жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Целый квартал красивых зданий с большими окнами, тюлевыми занавесками. Но странное дело - по тротуару никто не ходит, хотя сомнения нет - это центр города. Мое удивление еще больше возросло, когда, завернув за угол, мы очутились перед настоящими тюремными воротами.
Улица Пушкина - по ту сторону ворот. А по эту - настоящие тюремные корпуса.
Здания, фасадами выходящие на улицу, на все четыре квартала, подобны двуликому Янусу: наружу они улыбаются большими окнами с тюлевыми занавесками, а внутрь двора хмурятся оконцами с решетками и намордниками.
Это Янус, одно лицо которого принадлежит Пушкину, а другое - Бенкендорфу.
Я как во сне. Очень плохом сне - кошмаре. Меня фотографируют в профиль и анфас. Берут отпечатки пальцев и всей ладони. Две мегеры раздевают меня догола. Осматривают. Обмеряют. Ощупывают. Мнут своими омерзительными руками мои соски - грудные железы к этому времени у меня совсем атрофировались.
- Грудь - не рожавшей! - изрекает одна из мегер.
- Во всяком случае, не кормившей! – уточняет другая.
Заставляют присесть - заглядывают в задницу.
- Тьфу! - не выдерживаю я. - Хорошо, что это вы в мою задницу заглядываете, а не я в вашу.
Спускаемся по ступенькам в коридор - широкий, шикарный. Яркое освещение. Тишина. Надзирательница заглядывает в волчок и лишь после этого начинает греметь ключами. Дверь отворяется. Теперь ясно, почему так тихо: дверь чуть не сорок сантиметров толщиной, герметичная. Как в подвалах банка, где хранится золотой запас. Должно быть, тут очень опасные преступники.
И вот я в камере. Полуподвальное помещение. Окна высоко от пола. Впоследствии я узнала, что они на уровне двора. Темновато. На окне снаружи «намордники». Пол каменный. Стол. Три стула. Коек нет. После оказалось - есть три койки, которые открываются на ночь, а днем захлопнуты в стенку. Одиннадцать женщин. Я двенадцатая. Итак, я - в настоящей тюрьме, среди настоящих преступников. Кланяюсь и говорю:
- Здравствуйте, женщины!
- Ш-ш-ш-ш!
Говорить можно лишь вполголоса.
Присматриваюсь к группе преступниц, среди которых волей-неволей очутилась и я. Преступницы? В этом нужно еще разобраться.
Знакомство состоялось очень скоро. Прежде всего, узнав, что я новенькая, они меня познакомили с распорядком дня. В основном распорядок во всех тюрьмах один, но в каждой тюрьме - свой оттенок. Это Внутренняя (смысл этого слова для меня так и остался непонятным) тюрьма НКВД - самая усовершенствованная во всей Сибири. Сидят здесь исключительно политические. Режим рассчитан на то, чтобы люди сознались, в чем бы их ни обвинили, или - сошли с ума. Был еще третий выход - умереть.
В 6 утра - подъем; в 10 вечера - отбой. Днем нельзя ни лечь, ни прислониться, ни повернуться спиной к волчку (даже если ночью во сне повернешься - разбудят и заставят вновь повернуться к нему лицом). Допросы обычно по ночам. Весь день ждешь прихода ночи. И не только. Ждешь раздачи хлеба и кипятка, ждешь оправки, визита врача, прогулки, обеда.
У стола сидят три старухи. Две из них - монашки. Обеим далеко за 70 лет. Ничего, абсолютно ничего в них нет от тех убежденных, ярых фанатичек, образ которых мне так хорошо знаком по литературе. Еще меньше похожи они на хитрых, лицемерных интриганок, какими их выставляют у нас теперь. Это просто человеческие обломки. Несчастные, затравленные, одинокие старухи. Обе в ужасном состоянии. Одна явно доживает последние дни: потухшие, мутные глаза, дряблая, сухая кожа лица, шеи, безобразно распухший живот и отечные, будто стеклянные подушки, ноги. Она с трудом дышит, и дыханье свистящее, а в груди клокочет. Тяжело смотреть на те усилия, которые она прилагает, чтобы весь день сидеть, не смея даже опереться на стол! Она умела стегать одеяла разными узорами, ходила по деревням, выполняя эту работу частным порядком, «подрывая таким путем артельное производство», за что ей и приписали саботаж и вредительство, то есть статью 58-14.
Другая старуха, тоже в прошлом монашка, день и ночь думала о своей козе.
- Такая козочка беленькая! Такая ласковая! Ах, козочка моя родимая, увижу ль я тебя когда-нибудь?
У нее был маленький домик, крошечный приусадебный участок. В артели, изготавливающей стеганные одеяла, она зарабатывала гроши, так как качество артельных одеял было низкое, и, чтобы свести концы с концами, по ночам тайком выполняла заказы на дому.
Будучи совсем одинокой, она лет пятнадцать тому назад взяла на воспитание сиротку.
- Думала: взращу ее, всякому рукоделию обучу. Мы в монастыре в стародавние времена на всякое рукоделие знатные были мастерицы: и прясть, и ткать, и на коклюшках кружева плели - просто загляденье! Вязали пуховые платки, каких теперь никто и не видывал! Ну и, само собой, одеяла стегали. Пяльцы специальные у меня для этого были. Всему обучила я эту девочку, как дочку свою богоданную! А как купила козочку и стали мы со своим молоком, то тут я и подумала: «Слава тебе, Господу Животворящему, что сподобил меня вырастить дите, чтоб на старости лет не остаться одинокой! Выйдет Варя замуж - брошу я работу в артели, буду ее хозяйство вести, внуков богоданных растить!» А вышло, что я не дочь, а змею подколодную на груди своей пригрела. Донесла она на меня, что по ночам работаю - стегаю одеяла. Сама привела милицию, сама в свидетели напросилась. На очной ставке так и говорила: «У этой старухи все ее поступки, все мысли и слова - все против советской власти, советских законов. Потому что она - монашка и советскую власть ненавидит!» Отдали ей и дом с огородом, и козочку. Козленка она вот-вот ожидала. Ах, козочка моя ласковая!
Каждое утро натощак гадала старуха на бобах. Их заменяли мелкие камешки, подобранные во дворе на прогулке. Она и меня научила этой ворожбе, и, ей же Богу, очень складно получалось! Теперь я начисто забыла эту «черную магию». Помню только, что старуха очень серьезно относилась ко всей этой процедуре. Нужно было, зажав в левой руке 42 боба, встряхнуть их девять раз, приговаривая: «Сорок два боба - сорок две думы! Откройте мне правду, всю правду: что было, что будет, что на пути, что на душе», - и высыпать их. По фигурам и количеству бобов в каждой из них можно напророчить все что хочешь. Выпадало, что старушке еще суждено встретить свою козу. Этой надеждой она и жила. А почему бы и нет? Есть же где-то на небесах белый конь святого Георгия. Значит, есть и конюшня. На счастье там полагается козел. Если есть козел, то почему бы не быть козе? А на земле... Нет, мало шансов было у несчастной монашки встретить свою козу на этом свете.
Третья «преступница» - обыкновенная старуха колхозница из тех, что день и ночь трудятся на полях, не получая решительно ничего за свой труд. Однажды, когда сильный дождь загнал всех под навес, она, кряхтя и охая от разыгравшегося радикулита, сказала: «В ту германскую войну, когда Царь забрал в армию моего мужика, то я, как солдатка, хоть и немного, да нет-нет чего-нибудь и получу: то дровишек бесплатно, то с податями облегчение. А нынче, когда Сталин четырех моих сынов на войну забрал, то нет чтобы мне, старухе, помочь, - а на работу бесплатную меня, больную, в такую непогодь гонят!» Через два дня ее забрали, и вот уже восьмой месяц добиваются:
- Кто тебя подучил вести агитацию против партии и Сталина?
Я ей не поверила, мне казалось диким, что простая фраза, в которой все было правдой, могла быть причиной привлечения к уголовной ответственности пожилой женщины, чьи сыновья защищают Родину!
|