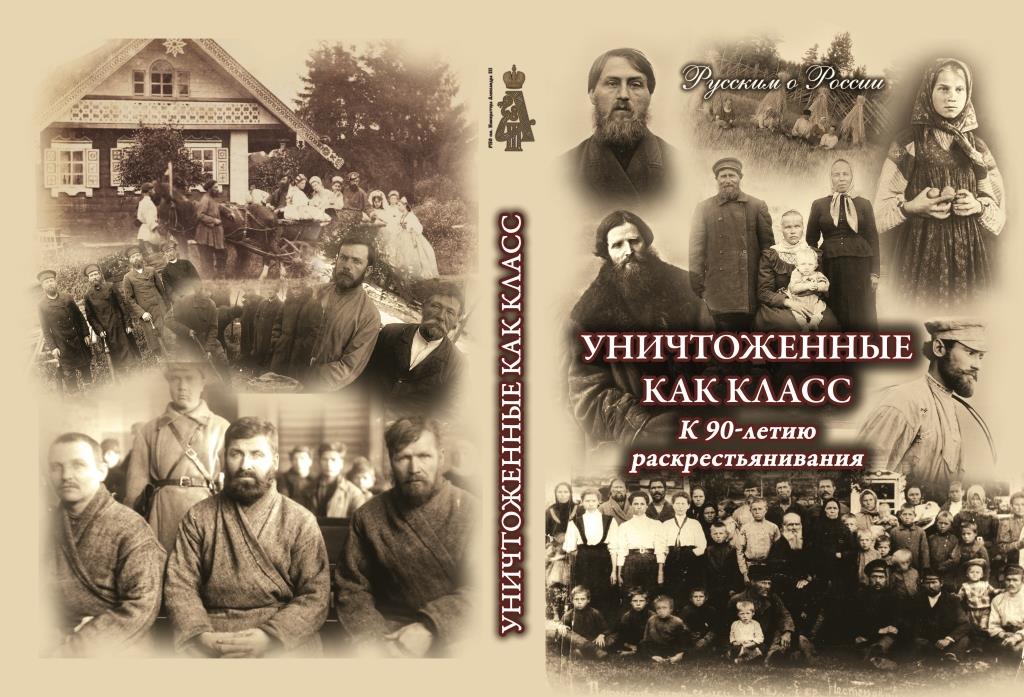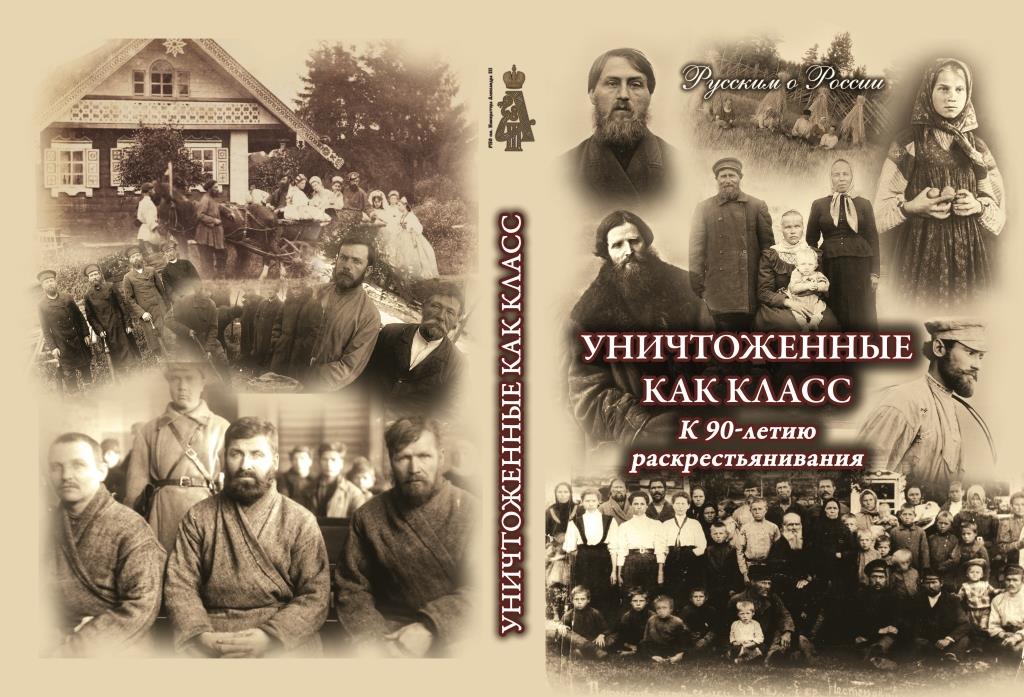
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/
Теперь каждодневно мы выходили на работу, на сплав леса. Громадные штабеля леса по берегам реки нужно было сбрасывать во вскрывшуюся ото льда реку. Делалось это вручную. Перекатывали каждое бревно по проложенным покатам-слегам, для чего ставили по два-три человека на каждом штабеле. Верхние ряды сравнительно легко поддавались усилиям рук, а те, что были в нижних рядах и тем более на ровном или низком месте, давались намного труднее, а для женщин были совсем непосильными. Но и это куда ни шло — ладно. Хуже всего, что питание совсем никудышнее: хлеба недостаточно, для горячего выделялось ничтожно мало крупы, изредка — воблы. Полученный паек никак не удавалось разделить на все учтенные дни и, как правило, день-два-три есть было вовсе нечего, наша семья буквально голодала. Да к тому же отношение со стороны местных десятников было почти издевательским. Всюду слышалось: "Давай! Давай!", "На вас люди работали — теперь ваша очередь работать на людей!" И так постоянно, и куда деться от сознания, что постепенно близится гибель. Проходили недели, декады, подсчитывалась десятниками проделанная работа, выделялись согласно выработке продукты. Выдавали их по так называемому расчету на заработанный рубль. Никаких рублей мы не получали, хотя подсчет их как будто был, но верить этому не хотелось. На рубль полагалось 113 граммов муки, еще меньше крупы и совсем ничтожно сахара. Получалось до слез мало, и уже никакие хитрости хозяйки не могли поправить дело.
На работу от нашей семьи ходили отец (было ему за пятьдесят), брат Константин, сестра Анна. Я тоже, на положении взрослого, был на этих работах, выходила и мать — помогала нам, сколько могла.
Приближалось лето. Молевой сплав леса в верховьях Ляли подходил к концу. На реке оставались только вольнонаемные, "кадровые", как их называли, сплавщики, задачей которых было очистить берега и заводи от затерявшихся бревен. Люди эти в шутку называли себя зимогорами, что говорило об их бесшабашности, оторванности от семейной жизни и какой-то особой беспечности к своей судьбе.
Период сплава зимогоры проводили на реке денно и нощно, в постоянно рисковой готовности оказаться в самых непредвиденных обстоятельствах ледяного половодья, несущего тысячи тысяч кругляков леса, где надо уметь и успеть вовремя заметить скапливающуюся опасность, отчаянно броситься на эту движущуюся, вертящуюся массу, виртуозно балансируя с багром в руках, подобраться к месту зарождавшегося затора, мгновенно найти тормозящую точку и "открыть окно" главному напору бревен.
Потом, завершив свое дело — лес доставлен по назначению, — возвращались зимогоры на исходную, в Парчу, где неподалеку от переселенческих бараков, между черемуховых зарослей, стоял их барак, в котором хлопотливо готовили стол к встрече две-три молодки. И черемуховый уголок необычайно оживал: гудели, пели, отплясывали уральскую "Подгорную" до изнеможения, и кто-то из них с усердием выжимал весь дух из татарской гармошки, то и дело взрывом вплетая слова из частушки:
Ты пошто меня не любишь?
Я пошто тебя люблю?
И-и! Пошто ко мне не ходишь?
Я пошто к тебе хожу?
Все они — человек двадцать — были в том возрасте, когда еще не все потеряно и есть желание тряхнуть удалью. Их положение резко отличалось от нашего, переселенческого, где довлела печальная тишина, где и малые и старые смиренно коптились вечерами возле дымивших костерков у реки, вполголоса и отрывочно делясь памятью о своем прошлом. Но ведь мы не являлись осужденными, и никакого приговора суда и срока объявлено нам не было. Не было и какой-либо огороженной и охраняемой зоны, следом за нами вооруженный конвой не ходил, и это давало повод верить в возможность ненаказуемого выхода с поселения. К тому времени люди стали больше знать друг друга, различать, с кем и о чем можно говорить. И то, что до поры хранилось затаенной мечтой, теперь уже в осторожных беседах начинало всплывать наружу.
Не знаю, у кого первого появилась мысль тайно уйти из места ссылки, у отца или у брата Константина, но было уже совершенно ясно: иного выхода нет, как только уйти, то есть самовольно оставить поселение.
И вот наступило лето. Июнь месяц. Тепло и днем и ночью. Отец и мать благословляют Константина и меня в путь-дорогу. Тайных лесных путей мы не знали и потому решили идти тем же трактом, по которому ранней весной нас привезли. Тихой ночью мы простились. Наша семейная договоренность была такова: ни при каких обстоятельствах не говорить, куда и как мы скрылись. Пусть думают что хотят.
Прошли мы километров двадцать, уже и Старая Ляля позади, осталось только пройти через мост небольшого притока Ляли, и вот на том мосту — встреча. Два всадника показались как раз в то время, когда мы ступили на мост. Скрываться уже было некуда, и мы решили идти прямо на встречных, все еще не теряя надежды: авось минует. Но нет, не миновало.
— Кто вы и куда идете?! — подъезжая, крикнул один из всадников. Наш ответ был, видимо, неубедительным, и мы услышали повелительный приказ: — В комендатуру, ну!
Получилось обидно. И было неловко, стыдно: так мало нам удалось пройти, и сразу же мысль о том, что теперь нас ожидает и как все обернется. А мать и отец думают, что мы уже где-то далеко, думают, что мы окажемся свободными, может быть, где-то устроимся, может, чем-то поможем остальным, если они выживут.
Нас посадили в какую-то каталажку, где и продержали около суток. Выяснив, с какого мы участка, отправили под конвоем в село Павда, что примерно в сорока километрах от Старой Ляли, опять вверх по реке. Усталые и голодные, мы шли по каменистой горной дороге целый день. Конвойный не голоден, на лошади, ему, наверное, и удобнее и легче, но и он, чувствуется, устал. Шли молча. В Павду пришли вечером. Опять — каталажка с решеткой на малом окошке, дверь надежно закрыта, кто-то дежурит. Утром нас вводят в комнату некоего начальника. Откуда? Почему? Куда? Отвечаем по правде: голод, унижения, негожие условия жилья.
— Ну что ж. Вот ты, — он указал на Константина, — в штрафную роту пойдешь. Там ты поймешь, что такое хорошо, что — плохо. Там будет весело! А ты, — теперь его взгляд был обращен на меня, — ты пойдешь к семье, обратно в Парчу. Лет тебе недостает, а то угодил бы туда же.
На Парчу я шел без конвоя. "Куда и на какое время угонят Константина?" — думал я, шел и соображал, как обо всем этом рассказать отцу. Уж больно скоро и скверно все кончилось. И что нас ждет впереди: ни срока, ни конца, ни ясности судьбы.
С испугом встретила мать, строго и вопрошающе посмотрел отец. Они совсем ничего, как и я, не слыхали о штрафных ротах. Думалось всякое и даже такое, что, может быть, уже никогда не видать нам Константина. Особых разговоров на Парче со мной не последовало, почти никто не заметил, что меня не было двое суток, и я опять с отцом и сестрой стал ходить на работу. После сплава мы заняты были окоркой бревен, не вывезенных из леса за зиму. Работали ручными окорочными стругами-лопатками, а в случаях, когда попадали комлевые бревна с особо толстой корой, применяли топоры. В тайге летом довольно жарко, много всякого гнуса, пахнет травами, непривычной прелью, и все это казалось немилым, тяжким, чуть ли не враждебным. Работа не увлекала, так как смысла и интереса она не давала.
Прошло около месяца, о судьбе Константина ничего не было слышно. И вот однажды среди ночи, в июле, меня разбудила мать. "Костя пришел, — тихо она сообщила, — выйди к нему, он ждет".
Я вышел из барака, никого не было слышно. Но когда подошел несколько ближе к реке — уловил отдельные слова знакомого голоса и тут же различил, понял, что брат не один. Их было трое: Костя и двое молодых, мне неизвестных. Они были в побеге и останавливаться на Парче не собирались, но сказать матери и отцу — проститься еще раз — было в их плане, а также взять и меня с собой. Не знаю уж, о чем Константин успел поговорить с матерью и отцом, но то, что они не препятствовали, я понял. Итак, мы снова на запретных дорогах.
За время пребывания в штрафной роте Константин каким-то образом узнал о возможности прохода прямым путем через горные перевалы по тайге, минуя таким образом и Старую Лялю, и Верхотурье с расчетом из Азии выйти в Европу в районе железнодорожной станции Теплая гора. По тогдашним подсчетам этот путь был равен 250 —300 километрам, но путь необычный: селений в этом направлении не значилось, и лишь изредка могли попадаться отдельные старательские хижины вблизи горных речушек.
Предполагалось, что могут быть где-то и прежние заросшие дороги, по которым якобы когда-то, при царе, гнали в Сибирь каторжан. Ни карты, ни компаса у нас не было. Ориентироваться каким-то особым, таежным образом мы не умели и все же решили идти неведомыми для нас тропами, проселками, речками и просто наугад, как подскажет судьба.
Шли день, шли второй. Если случалась вода — отдыхали. Запас продовольствия — сухари, сушеную рыбу — расходовали строжайше экономно. Сейчас уже с трудом могу представить лица товарищей Константина, которые оказались спутниками в этом переходе, а имена их совсем забыл, да и вряд ли это имеет какое-либо значение. Помню, что встречались нам старые, поросшие травой бревенчатые дороги. Они похожи были на какие-то особые, может быть, вправду когда-то служившие для следования этапами каторжан, для нас же они оказались очень даже подходящими. На пятый день мы стали замечать покосы, стога сена и тропинки с признаками недавних, почти свежих следов обитателей тех мест. Потом услышали отдаленные гудки паровозов, послужившие нам предупреждением для осторожности.
На Теплую гору мы вышли на шестой день. В первый момент это обрадовало нас, но тут же встал сложный вопрос: как быть дальше? что делать? Денег у нас не было, и о покупке билета для проезда не могло быть и речи. Можно было только попробовать на товарных поездах, но это тоже не просто и вообще в составе целой группы — невозможно. Так мы рассуждали, сидя вблизи железной дороги, в лесу. Здесь мы расстались со своими спутниками, и судьба их осталась нам неизвестной.
Мы с братом вышли к станции. Как раз проходил пассажирский поезд. Кто-то куда-то ехал, не прячась, не боясь, и, конечно, в уме не держал, что совсем рядом метались в неизвестности два человека, каждую минуту ожидая ареста, этапа, жестокого обращения, не имея прав защищать себя, доказать лишь единственное желание — быть просто свободными людьми. Вид наш был изнуренный, приметный, подозрительный. И нас там же задержали. Опять комендатура, допросы, обыски и арест. Но исчезал страх, и, кажется, мы были рады любому исходу, лишь бы сделать передышку, как-то оглядеться, что-то узнать, успокоиться.
На наше счастье, там, на Теплой горе, был маленький заводик — остатки демидовских владений. Завод чугунолитейный, с одной старенькой небольшой доменной печью, работавшей на древесном угле. Не хватало рабочих, и по этой причине нас передали в распоряжение этого завода. Поселили под крышей пожарного депо. Не было там ни кроватей, ни каких-либо постельных принадлежностей, но все это ничуть нас не испугало — мы были рады, что нет над нами охраны, каких-либо надсмотрщиков, что, работая на литейном дворе, мы получали талоны на обед, ужин и утром на завтрак. Работа, правда, была адская и новая для нас, но жить можно было. Кто-то из начальства, однако, приметил, что я жидковат для работы на литейном производстве, и меня перевели работать на лошадях по перевозке угля с железнодорожных складов на домну. Повозка с большим, плетенным из прутьев коробом запрягалась парой лошадей. Я возчик, я же и грузчик угля. А выгрузка производилась так: лошадей, не выпрягая, поворачивали под прямым углом к нагруженной повозке, и она без особых усилий опрокидывалась, а порожний короб был довольно легким, и его уже возчик сам устанавливал на повозку. Работа эта была (понятно — уголь) грязна до предела. К вечеру я бывал чернее самого черта, переодеться же не во что: в чем работал, в том же и ел, и спал. Глядя на меня, Константин страдал, да и вообще он продолжал думать все о том же — бежать, бежать в родные места. Я до сих пор не очень понимаю, что именно двигало брата, почему он так неотступно стремился бежать. Правда, у него на родине была невеста, которая не знала, где он и что с ним. Может, манила мечта встретиться, рассказать, объясниться; может, он имел какую-то неведомую мне и понятную лишь ему мысль о дальнейшей жизни и ее устройстве — не берусь что-либо утверждать. Мне казалось, что муки наши неоправдано тяжелы, что где бы мы ни оказались, ждет нас все то же: арест и этап.
Здесь я должен возвратиться несколько назад. Будучи еще на Парче, где остались отец, мать и все остальные, мы писали Александру в Смоленск. Мама и отец, видимо, сколько-то еще думали — утопающий хватается за соломинку, — не сможет ли он как-то, чем-то помочь. Конечно же было ясно, сам он тогда жил на малых средствах, постоянного заработка не имел, и ждать от него материальной помощи нельзя было, но ведь вряд ли о ней могла идти речь, может, ее и не ждали, пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с матерью, отцом, с младшими, кровно близкими. Ведь говорим же мы, что друг познается в беде. Поэтому, как я понимаю, ничто не может быть оправданием сыну, который в тяжелейшую для матери минуту не пришел к ней.
Туда, в Парчу на Ляле, пришло от Александра два письма. Первое было чем-то обнадеживавшим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие:
"Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества — не есть ликвидация людей, тем более — детей..."
Письмо этим не кончалось, писал он и дальше, вроде того: "...писать я вам не могу... мне не пишите..." На том все и закончилось, больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года.
Когда мы были на Теплой горе, у Константина все еще хранилось в сумке пальтишко грубого сукна, демисезонное. Таскал он его как неприкосновенный резерв на случай, когда уже ничего иного придумать нельзя, как только отдать за кусок хлеба. И день такой настал: он променял свое пальтишко на сухари, которые следовало иметь в дорогу, — мы покидали Теплую гору. Пользуясь тем, что жили мы там без охраны, мы наш путь продолжили.
Шли мы прямо по шпалам железной дороги. Впереди была станция Чусовская, до которой от Теплой горы было двести пятьдесят километров. Каждый день мы старались пройти пятьдесят километров. Сколько-то у Константина было денег, кажется, он их получил при обмене пальто на сухари, и мы в пути несколько раз покупали молоко у железнодорожников, на разъездах. Спали же мы на этот раз во встречавшихся стогах сена. Событий никаких не произошло до самой станции Чусовской, куда мы пришли за пять суток.
Но так уж все складывалось: как только мы оказались на улице этого уральского городка, так тут же и были задержаны милицией и водворены в арестантское помещение. Продержали нас там недели две. Каждый день всех задержанных и арестованных, которых набиралось до сотни, посылали на разные работы, под охраной: разгружали вагоны, таскали доски, кирпичи, работали на лесоскла-дах. С неделю держали на станции Лямино, что в десяти — двенадцати километрах от Чусовской в сторону Перми. В Лямино были большие лесопильные заводы, и работа там была исключительно по погрузке пиломатериалов на железнодорожные платформы. Затем снова нас возвратили в Чусовскую, и там, во дворе милиции, мы вдруг встретили нашего родственника — дядю Михаилу Вознова. Того самого Вознова, о котором ученик Ляховской школы Шура Твардовский упомянул в самом первом своем стихотворении:
Раз я позднею порой
Шел от Вознова домой.
Трусоват я был немного
И страшна была дорога.
Встреча со старым, дряхлым, больным Михаилом Матвеевичем Возновым была так неожиданна, так печальна, что в тех условиях она отозвалась в душе как последняя встреча с обреченным. Да оно и не могло быть иначе. И он это понимал.
Непослушными дрожащими руками, роняя старческую слезу, он, покопавшись в своем мешочке, отыскал завалявшийся кусочек смоленского сала и разделил его с нами. Никакой связной беседы не получалось, только так, междометиями: "У-ух!" да "А-яй!" Он предвидел скорый конец свой, и, наверно, там, в Чусовской, он для него и настал. Обнялись, попрощались. Тут нас стали вызывать по списку для отправки на станцию Утес, что в двадцати километрах от Чусовской в сторону Соликамска.
На станцию Утес нас привезли поездом. Дело было к вечеру, и ночевать пришлось где-то в комендантской. Был август, но погода удерживалась теплая. Работу нам дали на алебастровом производстве. Это не было ни заводом, ни фабрикой, а просто "Алебастровое производство", как и значилось в бумагах. Там, в близлежащей горе, в карьерах, добывали алебастровый камень — сырец. Вагонетками на лошадях его подвозили к станции и обжигали древнейшим способом: выкладывались из него своего рода печи, и в них сжигались дрова людьми, знающими и умеющими держать в этих печах нужную температуру, определять готовность обжига. Там же, на специальной мельнице, камень мололи, а затем грузили в вагоны.
Таких, как мы, беглецов было много. Жили намного лучше, чем в таежных местах. Здесь работа оплачивалась лишь немного ниже, чем вольнонаемным и было гарантированное питание в столовой с постоянной нормой хлеба. Мы были согласны остаться здесь надолго, но с наступлением зимы сократились работы, и всех нас собирались отправить по прежним местам ссылки. Возвращаться опять на Парчу, на Лялю, мы не хотели, и Константин решил попытаться устроиться на угольные шахты, которые находились севернее, в Кизиле и в Усьве. Слухи были такие, что якобы там не требуется никаких документов, дескать, шахта есть шахта, лишь бы хотел работать. Надо было как-то попасть туда, но это неблизко — километрах в семидесяти.
На товарных поездах мы доехали до тех мест и побывали на шахтах, и хотя нас там не задержали, но и на работу без документов не приняли.
Начались холода. Одежда наша была совсем не по сезону — мы коченели от холода. Но деваться некуда, надо как-то жить, что-то искать. Мы снова, теперь уже вспять, до Чусовской, не заходя в город, напрямик отправились по заснеженным, бугристым и неприветливым пустошам, добрались до железной дороги и по шпалам пришли на станцию Калино. Обогрелись, отдохнули, какой-то воришка угостил нас чаем в буфете, а с наступлением темноты мы оставили эту станцию и на товарном поезде проехали два-три пролета до станции Комарихинской. Здесь уже никто нас не спугивал и не задерживал, и мы дождались утра в зале для пассажиров.
Нынешнее поколение, может быть, с трудом поверит в правдивость моего рассказа. Но мы были похожи как раз на тех, которым уже терять нечего и нечего жалеть. Мы были голодны, одиноки, утомлены самой жизнью и желали только одного — хотя бы оказаться в тепле, уснуть, забыться, даже умереть, исчезнуть, лишь бы освободиться от безнадежности.
И все же мы какой-то силой продолжали двигаться вперед по направлению к западу, в ту сторону, где осталась наша малая родина. И не чувствовали за собой никакой вины. Мы же никаких преступлений не совершали — и не могли смириться с тем, что у нас отняли свободу и молодость.
Впереди была Пермь. Этот город мы обошли стороной, петляли по его окраинам, по льду перешли Каму, ночью. Чуть живые вышли на железную дорогу, и она привела нас на станцию Курья.
В маленьком зале, вперемежку с торбами, сумками, сундучками, повалом, прямо на полу, сидели, лежали взрослые и дети. Многие спали, храпели, некоторые копошились, пристраиваясь уснуть. Были там и такие, которые видом своим были похожи на нас. Там мы немного отдохнули. Я спал. Разбудил брат толчком. Открыв глаза, я понял, что надо идти. Ничего не спрашивая, я встал, и мы оставили эту станцию и прямо по линии двинулись дальше. Отойдя всего с полверсты, возле немудреного домика увидели баньку, вошли в нее, и тут нас охватило смятение: банька еще не успела остыть, в ней было тепло, и мы испытали чувство опасения. Но оно прошло — поняли, что в столь поздний час никто уже не придет. В сознании сверкнул лучик облегчения: остаток холодной ночи можно провести в тепле, может, только три-четыре часа, но как много значило это для нас! Однако я еще был в неведении о том, что побудило брата покинуть зал станции, где, казалось, мы так же могли бы скоротать эту ночь. И спросить об этом я еще не успел, как брат, крякая, присел к окошку, вытащил из мешочка полбуханки хлеба, затем добрый кусок мяса и... четвертинку водки.
— Понял? — кивнул мне. — Вороне Бог послал... Ну и не спрашивай. Давай, ешь.
Конечно, я все понял.
Спустя сорок с лишним лет, будучи в гостях у брата в Лоннице, на Смоленщине, где он, вернувшись с фронта, проработал в совхозе кузнецом более тридцати лет и давно уже был коммунистом, вспоминали мы те годы и наши дороги.
— Помню, Ваня. Помню все. И ту ночь — тоже... Да что ж можно сказать? Голод, отчаяние. Камня на моей совести нет!
Чувство стыда было повержено голодом и нашим положением. Константин выпил водки, поел, пошли дальше. Где-то сели на товарный поезд и ехали на тормозной площадке до станции Верещагино. Было много путей, и мы, опасаясь, шли между поездных составов. Вдруг услышали окрик: "Стой! Кто такие?" К нам подскочил коренастый, белобрысый мужчина. Схватив брата сзади, принуждал следовать с ним. Константин, конечно, мог отбросить его или же вступить в борьбу, но побоялся, не то было место: белобрысый был дома, а мы — чужие, беглые бродяги. Просьбы наши не вызывали в нем сочувствия, и мы были доставлены в отделение линейного ОГПУ.
Через день нас повезли в этапном вагоне в Пермь. Мы были не одни — задержанных был полон вагон. В Перми нас сдали в какой-то лагерь, где было до полтысячи пойманных беглецов, преимущественно из ссыльных. Лагерь находился близко к складам зерна. На этих складах нам и пришлось работать на погрузке и разгрузке. И было там чему удивляться: только вчера выгружали, бегали возле нас "руководящие" с бесполезным: "Давай! Давай!", а назавтра мы, обессилевшие "муравьи", волокли те же мешки под ту же музыку "Давай! Давай!" обратно в вагоны.
Кормили плохо, условия в казарме — ужасные: ни тебе бани, ни постели, ни тепла. Грелись угасающим теплом человеческих тел.
Я пишу эти строки в возрасте, когда уже все позади. Великое слово ПРАВДА обязывает меня сказать все как было. Да ведь и не вчера это было. Прошло с тех пор более чем полвека. Если же действительно человек свободен у нас, то пусть это станет гласным, чтобы не было фальши в рассказах о становлении нашей сегодняшней действительности.
У Александра Трифоновича есть такие строчки в поэме "По праву памяти":
Вам —
Из другого поколенья —
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенье
Для виноватых без вины.
Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш мертвый иль живой.
В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, —
Ответ по-нынешнему прост.
Но в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, —
Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.
----------------------------------
Тогда совсем уже не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы вам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво.
Тот вряд ли с будущим в ладу.
В Пермском лагере находились около месяца. Потом опять этапом в те же места, куда были высланы. Мне и брату Константину предстояло возвратиться на реку Лялю, в Парчу.
Не могу не отметить, что само название места — "Парча" — мне очень нравилось. Дело в том, что с самого раннего детства я слышал это слово из поэмы Некрасова "Коробейники": "Есть и ситец и парча". Поэму эту у нас в семье не только читали, — ее пели. И хотя тогда, в детстве, я не знал, что парча — один из видов ткани, слово ассоциировалось с чем-то красочно-нежным, праздничным, с чем-то завораживающим. Не исключаю, что, может, некогда это название и возникло в связи с удивительной красотой самого места. Река Ляля сама по себе очень красива. Она петляет среди отвесных гор, удерживающих на себе в основном сосновые леса, у подножия — сплошные черемуховые заросли, которые так обильно цветут ранней весной, что при нормальных условиях жизни нельзя не восторгаться.
Наконец — станция Гороблагодатская. Отсюда нас повезли в Нижнюю Туру. Потом, уже без конвоя, мы пошли с Константином по узкоколейке в сторону Старой Ляли. Да, путь этот был тяжким: мы возвращались туда, откуда ушли тайно полгода назад.
Семьдесят километров — не так уж много. Но пройти их без ночлега, зимой, без пищи — ой как непросто.
Примерно на половине пути, на какой-то крохотной остановке, где было всего два-три барачных сооружения для службы и жилья, поздно вечером, уже предельно утомленные, мы осмелились зайти в одно из тех жилых строений. Открыла нам женщина средних лет и... не испугалась. Приветливо пригласила войти. Мы честно рассказали ей о себе: "Бежали из ссылки, были задержаны, возвращаемся на прежнее место".
До сих пор сохранилось во мне ее теплое сочувствие: мы были встречены по-людски. С каким-то чисто материнским вниманием она предложила нам ужин и с радушием напомнила, чтобы мы не стеснялись. Предложила и ночлег, но мы и без того были ей благодарны, ушли.
|