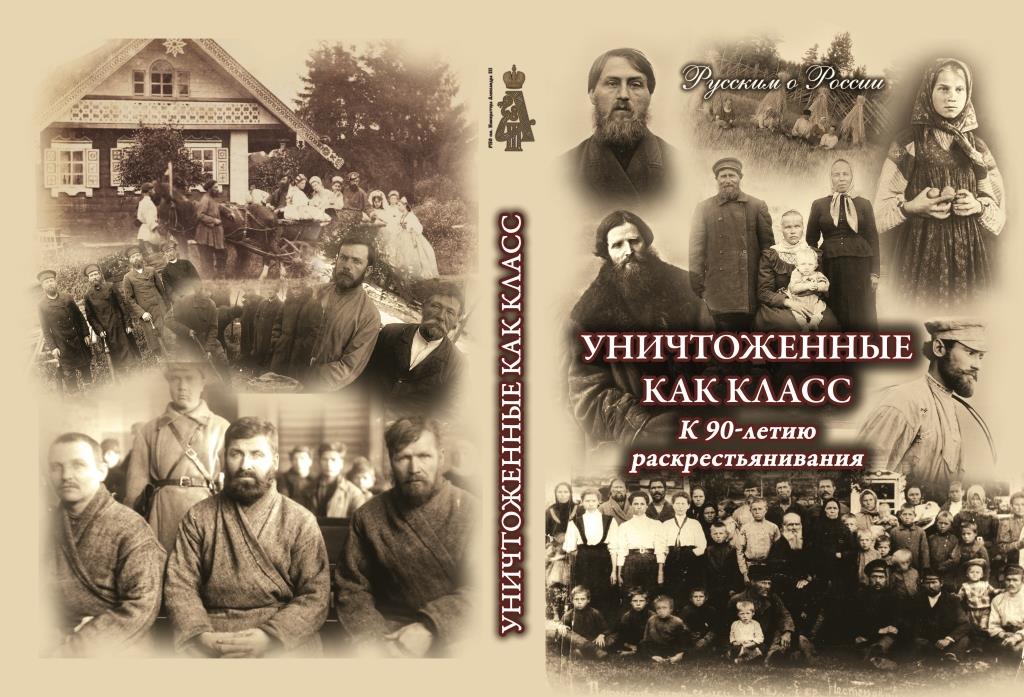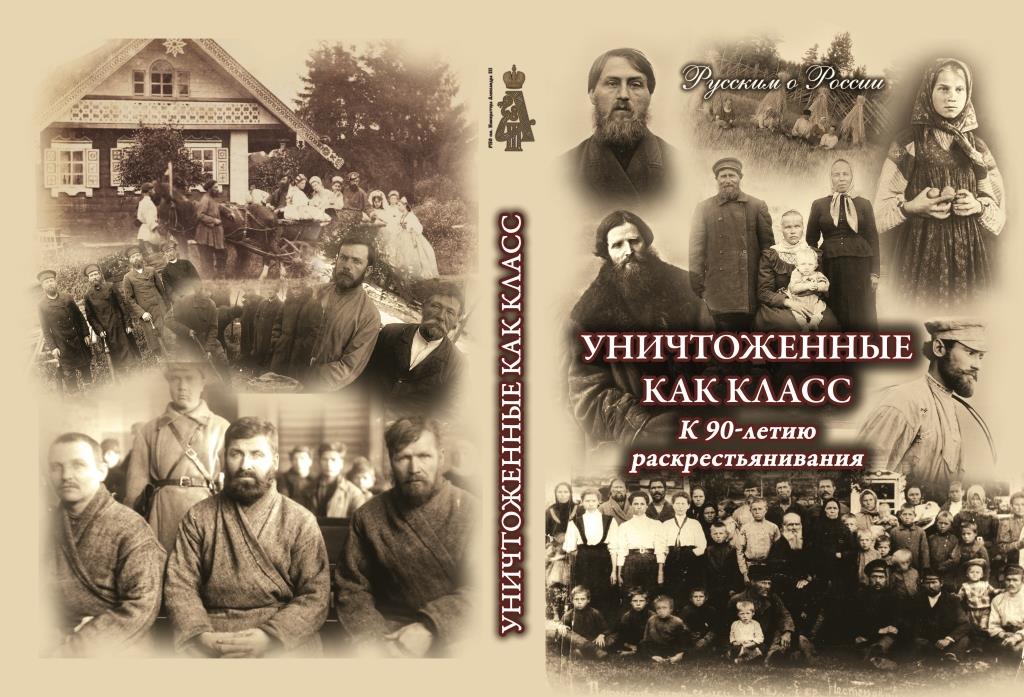
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/
В конце декады на лесосеку заявились десятники-приемщики, всего двое. Чаще они бывали под хмельком и, прежде чем приступить к приему нашей работы, острили, рифмуя и каверкая нашу фамилию: "Мордовский, Каковский? Ха-ха-ха!.." — заканчивая совсем непечатным. Ответить и пристыдить их мы не смели — осложнится сдача работ, придраться могут к любой мелочи, зарежут объем, и не найдешь концов. Все же наш негодующий взгляд и наше молчание сдерживали их грубую вольность.
При замере один из них оставался стоять на каком-нибудь пне с разграфленной книжкой и ставил точки, когда второй голосом передавал результат замера каждого бревна, делая пометку цветным карандашом на срезе. Бревен накапливалось за декаду полсотни и больше. Лежали они вразброс по местам валки, так что все их сразу не так просто было предъявить, приходилось буквально лазать по снегу туда-сюда и обратно, что раздражало приемщиков и давало повод всячески нас оскорблять. Было весьма сомнительно, что ответственность приемщиков подконтрольна: бревна должны были вывозиться к реке для сплава, но зачастую они оставались на годы, а иногда и совсем не вывозились.
Общий объем выполненных работ подсчитывался этими же приемщиками. Списки на продовольствие согласно подсчету передавались в магазин, где спецпереселенцы могли выкупить его за деньги, поскольку теперь уже, хоть и не регулярно, но все же кой-какую зарплату начисляли с удержанием пятнадцати процентов на содержание комендатуры.
Но в магазине нас ожидало горькое разочарование: того, что мы получали на десять дней, едва хватало дней на пять. Наши усилия не оправдывались, и руки совсем опускались. Получалось так, что, находясь вместе с матерью и малыми, мы только ухудшали их и без того трудное положение. Что оставалось нам? Продолжать работать — полное изнурение. Бежать? Но бежать в том виде, в каком мы есть, неизбежен провал и крах. Да и куда, собственно, сунешься в марте из таежных мест Зауралья, когда еще снег, мороз по утрам до тридцати градусов? Именно в этом духе не раз мы вели рассуждения. Слушая, мать пробовала удержать нас от окончательного уныния, и ее забота была той самой "святой неправдой": отказывая себе, она тайком расходовала на нас почти весь свой паек. Когда же мы это заметили, она стала уверять, что "нет... ничего... я лапшицы поела, я — ничего, а вам в тайгу!"
Когда же заходила речь об Александре, о его отказе продолжать переписку, она находила и для него самые ласковые слова. Склонив голову, сидя на грубо сколоченной скамье, она погружалась в раздумье и, собравшись с мыслями, высказывала их вслух, но можно было подумать, что и не для нас, как бы только для себя, без какой-либо доли сомнений в его сыновнюю преданность и любовь к ней.
— Знаю, чувствую, верю... нелегко было, — говорила она, — решиться ему на такое письмо, да уж видно, сыночку моему нельзя было... по-другому... карусель в жизни такая, что поделаешь? — тихо, прерываясь и дрожа, облекала она свои мысли в слова из своей материнской души.
Отец продолжал присылать сто рублей каждый месяц. И хотя трудно и мало чего можно было купить на них, все же это была поддержка. Приходили от него и письма, которые всегда начинались одними и теми же словами: "Дорогие мои горемыки!" Писал он карандашом, и знакомый нам почерк с признаками неукоснительных правил каллиграфии давних лет детства был дрожаще-скачкообразным и напоминал о его огрубевших от постоянной работы молотком руках. Из писем было ясно, что ему ничего неизвестно о нас, о Константине и обо мне, и что он пытался узнать что-нибудь через родственников, полагая, что, может, им мы писали о себе, но и родственники ничего не знали. О том, что я и Константин находимся на прежнем месте ссылки, он, по-видимому, и мысли не допускал. Обо всем писал осторожно, по именам никого не называл, а лишь как-то так: "О ребятах спрашивал в письме к свояченице, но она ничего не знает". Или: "Ребята никому не пишут". О том, что отец побывал в Смоленске, прежде чем оказаться в совхозе "Гигант" Можайского района, что имел встречу с Александром, он, понятно, ничего не писал. Как произошла эта встреча и чем она закончилась, подробно мне стало известно позже, непосредственно от самого отца, но об этом ниже, чтобы не нарушить хронологию.
В начале марта мы все еще ходили на ту отдаленную лесосеку. Случались ясные дни, солнце пригревало в таежной глуши, и передохнуть можно было, не разжигая костра. Минуты отдыха мы устраивали по исполнении намеченного себе задания: "Вот повалим еще вон ту ель и — перекур", — ставили себе условие. И было веселее и вроде бы легче работать — испытываешь чувство призрачной свободы. Так и получалось: дотянув до намеченного, присядешь, бывало, на пенек или на хлыст и так облегченно вздохнешь и словом перемолвишься. Константин закурит, а я в мечтах уже на Смоленщине: друзей вспоминаю, родное Загорье и где только не побываю, да, случалось, и усну тут же — усталость одолевала меня. И вздрогну, спохвачусь, а брат уже сучья обрубает: тюк-тюк; меня пожалел, не окликнул.
Прошел почти год с того дня, как пришлось оставить отчий дом, но я никому не сообщал о том, где я и что со мной, хотя неотвязно вспоминал ближайшего друга по Лобковской школе Мишу Карпова, которого мне так теперь не хватало. Дружба с ним была из общности наших мечтаний, и мы были неразлучны. Миша еще шутил: "Давай разрежем вены и смешаем кровь, дабы дружба наша была неразлучной навсегда". Да, очень мы были единых взглядов. Так вот и носил я в душе образы отторгнутых от меня друзей, пока не настал такой час, когда уже начал томительно переживать и не мог не послать письмо Мише Карпову. Не помню уж, как я тогда сумел и сумел ли толком объяснить, что дела скверны. Миша откликнулся дружески и сочувственно. Он учился в городе Сухиничи в техникуме связи. Из своих скромнейших ученических запасов он выделил и прислал на мое имя посылочку смоленского сала, может, всего с килограмм. Но как же это было дорого, как порадовала та посылочка всю нашу семью! Мы крохами ее делили и, казалось, поздоровели, стали тверже чувствовать себя. А в письме он прислал свой рисунок — на развороте листа панорама таежных окраин будущего: опоры электропередач, трубы заводов, массивы жилых зданий. Он искренне верил в возможность подобного, и его воображение конечно же опиралось на имевшиеся в стране примеры Магнитостроя, Днепростроя и других строек первой пятилетки, но нам не случилось оказаться в таких местах. В дальнейшем Михаил Мефодьевич Карпов стал кандидатом медицинских наук, долго работал в Ленинграде, где мы не однажды встречались.
Вскоре случилось то, чего мы так опасались: в наше жилище проник сыпняк. Первой жертвой стала пожилая женщина — Лисовская. Она была слаба и до этого, теперь ее свалил тиф, и уже неотвратимо приближался конец. Муж этой женщины упросил священника-спецпереселенца — стриженого смоленского попика, который давно уже распрощался и с ризой, и с гривой, — и тот пришел. Вид его был совсем не церковный, казалось, он всего стеснялся, поспешно читал отходную молитву, щепотью тряс воздушные кресты над умирающей и тут же, похоже, боясь заразиться, юркнул из хаты. Тем же вечером женщина скончалась. Сам Лисовский впал в отчаяние и совсем не держался на ногах. Мы не могли оставаться в стороне и всячески разделяли его горе. Силами тех, кто жил рядом, обрядили покойную и проводили на таежный каменистый бугор окраины, названный кладбищем. Картина самого погребального шествия была гнетущей: гроб с телом покойной тащили волоком, пристроив под него подобие полозьев. На самом бугре нельзя было выкопать могилу — скальный грунт можно было разрушить лишь сверху, не более чем на полметра глубиной. Вот в такую выемку и опускали гробы, а затем обкладывали могилу крупными кусками и крошевом камня.
Есть у Александра Трифоновича в одном из стихотворений, посвященных памяти нашей матери, такие строки:
Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, —
Уж очень было кладбище немилое
Кругом леса, без края и конца, —
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого
Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то могилки сразу за бараками.
Нет, это не с моих слов. Скорее всего — из рассказов самой матери. Мне так и не случилось рассказать брату о тех мрачных днях — не оказалось удобного момента, к тому же я знал, что он всячески избегал воспоминаний о наших муках.
Не удалось и нашей семье уберечься от тифа. Всего, может, прошло пять-шесть дней, как, будучи на работе в лесу, я почувствовал сильный озноб, головную боль и слабость, понял, что тиф подобрался и ко мне. Константин помог дойти до поселка, и я слег с высокой температурой. Врачей на поселке не было, медицинской помощи не от кого было ждать. Больные оставались в своих семьях, если они еще сохранялись. Лишь единственный человек из числа спецпереселенцев когда-то был лекарским помощником в армии, и вот теперь он представлял всю медицинскую службу на поселке. Но что он мог, если в его распоряжении почти ничего не было: ни помещения, ни медикаментов, да и знаний, надо думать, вряд ли было достаточно.
Однако, хотя он и не лечил и не мог лечить заболевших, все же к нему обращались, чтобы быть на учете, так как если больной выживал, то с ведома и санкции этого лекпома выздоравливающему выписывали килограмм селедок и полкилограмма сахара для, так сказать, восстановления сил.
Болел я тяжело и, пожалуй, вряд ли выжил бы, если бы не мать. Уж не знаю, где и как доставала она обыкновенную клюкву, приготовляла из нее морс, но, помню, средство это здорово облегчало и помогало. Я выжил. И получил тот "восстанавливающий силы" продукт — селедку и сахар. Только-только я стал поправляться, как слег Константин. А за ним — мать. Затем заболели сразу и Маша и Вася. В какой-то момент я был единственный на ногах и должен был спасать всех чем мог и как мог. Думаю, что выдержали мы тогда и все остались живы благодаря нашему отцу: его редкостная преданность семье, его помощь и просто беспримерная жизнестойкость вселяли жажду превозмочь недуг, устоять, выжить во что бы то ни стало.
Во второй половине апреля наша семья перебралась в свободную, никем не занимаемую хату. Это была совершенно новая хата, по типу пятистенок, с двумя входными дверьми с противоположных сторон. Никто не хотел ее заселять. И причина была в том, что людей стало меньше, жизнь не радовала, ни у кого не было желания устраиваться и прирастать, являясь ссыльным. Недолго мы с братом пожили в той новой хате. Пришла весна. Снег встречался лишь в чащобах да низинах, и вопрос о том, как быть дальше — продолжать ли изнуряться тяжким и неблагодарным трудом на лесосеке, лишь ухудшая положение матери, которая вынуждена отцовскую помощь расходовать и на нас, — этот вопрос становился неотложным.
Вырабатываемый нами паек по-прежнему составлял едва ли половину необходимого, чтобы жить и работать. Теперь же, после болезни, мы не в силах были и того выработать. Да и не принимала душа самого положения — невольниками быть мы не желали. Мать с этим соглашалась и одновременно горько страдала, предвидя наши скитания. Но день ото дня мы всё ближе придвигались к решению и наконец окончательно стали готовиться снова бежать. Собственно, слово "бежать" не совсем точное. Ведь нас не охраняла стража, мы не были обнесены колючей проволокой и в известном радиусе были свободны. Нас могли задержать, это — да, но риском для жизни это не было, стрелять в нас не могли.
Теперь нам не угрожал тиф: мы знали, что вторично им не болеют. Значит, в поселке можно было приобрести кое-какую одежонку, не опасаясь заразиться. В общем, такие заботы отпадали, хотя на душе отмечалось беспокойство совсем по другим причинам. Мы не были единодушны в вопросе конечных наших целей: куда держать путь и чего искать? Константин намерен был вернуться в родные места на Смоленщину, хотя ясных представлений о том, что нас там ожидает, не имел. Я же настаивал на том, что проще и надежнее оказаться где-либо на стройке и не рисковать в той мере, как это может случиться на Смоленщине, где нас могут опознать. Ведь у нас не было никаких иных желаний, кроме как найти где-то работу и жить на общих гражданских условиях, что вполне могло быть осуществимо, поскольку тогда еще не требовалось паспортов. Чтобы устроиться на работу, достаточно было иметь какую-либо справку. Совсем вроде просто: "какую-либо справку". Но где ее взять?
Наши несовпадающие намерения мать замечала, и это не могло не огорчать ее: расставаться с сыновьями, уходящими в белый свет при не полном единомыслии, было ей нелегко. Только что могла она сделать? Нелегко было и нам оставлять родную мать. Но и оставаться с ней не было смысла: пробовали ведь отдавать работе все силы, да что толку?
Утром 22 апреля 1932 года мы вновь покинули лялинские дебри. Это была наша третья попытка уйти из этих мест. Были попытки уйти и из других мест — из Теплой горы и Утеса, — но кончились они без успеха. И все же мы уходили. Без копейки денег и почти без продуктов. Все, что нашлось, отдали за смену нашей изношенной одежды — это было первейшей необходимостью. Из снеди же мать смогла приготовить с килограмм пресных ржаных бубликов, какие она всегда делала, когда не было хлеба. Мы рассовали их по карманам, чтобы не нести в руках узелков. В самые последние минуты сестра Анна предложила свое пальто, которое купили ей еще в Загорье и которое она смогла сохранить до этих дней.
— Костя, Иван, — были ее слова, — возьмите мое пальто. Может, продадите, может, обменяете на хлеб. Как же так, совсем без ничего вы пойдете? — и не удержалась... ладонями прикрыла лицо.
Мне и сейчас не по себе вспоминать и писать об этом, но и умолчать тоже не с руки. Мы взяли пальто. Я всегда помнил о святой женской жертвенности нашей сестры. А отблагодарить или, вернее, отдарить смог только через двадцать лет. Долго мне пришлось носить в себе груз этого неоплатного долга.
Присев на минутку перед уходом, мы круто встрепенулись и без слов попрощались, обнимая друг друга. И не было сил освободиться от чувства какой-то неясной и недоказательной, но в то же время как бы очевидной и неоправданной вины, что мы, мужчины, оставляем на произвол судьбы своих родных, куда более слабых: маму, сестер, шестилетнего братишку. И сама поспешность, с которой происходило наше прощание, как бы подтверждала правомерность такого чувства: "Скорей, скорей, чтобы не видеть душевных страданий дорогих нам людей".
Ясным апрельским утром по тропинке мы пошли вниз по реке Ляле. Миновав поселок Старая Ляля, пологим подъемом дороги дошли до развилки: влево дорога вела в Новую Лялю, прямо — в Верхотурье. Наш путь был по прямой, в Верхотурье, к железной дороге. Передохнув на обочине, мы пошли дальше.
Уже во второй половине дня, пройдя километров двадцать пять-тридцать, мы встретились с двумя мужчинами. Они тоже были пешие, приближаясь к нам, вели меж собой какой-то разговор и, сбавив шаг, остановили нас. Поначалу мы встревожились, но встретившиеся обратились к нам довольно миролюбиво.
— Слушайте, ребята! — сказал один из них. — Не пожелаете ли работать на подсочке?
Для нас это было, конечно, неожиданным, и хотя мы кое-что слыхали об этой работе, то есть о сборе смолы подсочкой, но сразу что-либо ответить не нашлось, и нам стали тут же пояснять и саму задачу, и условия.
Закончился разговор тем, что мы должны были дойти до деревни, километрах в трех от места этой встречи, и там, найдя названный дом, ожидать их возвращения. Возвратиться они обещали часа через полтора-два, сказали, что идут на участок предстоящих работ и что по возвращении устроят нас с жильем и оформят на работу. Предложение показалось нам заманчивым, и мы согласились.
Мы дошли до деревни, отыскали названный дом, в котором передние комнаты были не заперты и не обставлены мебелью. В том, что в доме было пусто и глухо, ничего подозрительного мы не нашли, посчитав, что так оно и бывает, когда дело только лишь начинается. Мы стали ждать.
Прошло часа два — никто не возвращался, и у Константина возникли сомнения:
— Черт его батьку знает, правду они нам сказали или это ловушка. Как бы нам не попасть в нее. Давай-ка, Иван, тягу дадим, пока не поздно.
Полагаясь лишь на интуицию, я начал тогда уверять, что обмана быть не должно, что люди эти говорили без какой-либо фальши, что надо, мол, ждать еще. Но Константин возразил, что если даже все правда, то все равно оставаться нам здесь не следует, так как из района ссылки мы еще не вышли и есть явная опасность быть задержанными. Мне очень не хотелось пускаться в неведомые дали, и я продолжал доказывать брату, что опасений меньше именно там, откуда бегут, и в подтверждение добавил чужие слова, слышанные мной где-то прежде: "Скрываться легко, где ты должен быть". В общем, теперь уже трудно судить, кто из нас был прав. В доводах Константина была, конечно, логика, да и был же он старше, но меня удерживали свои соображения. Я упрямился. Гляжу: хмурый вид у брата, и глаза тускло светят, как будто ничего не видят. Потом, как-то вдруг крякнув, он сказал:
— Знаешь, Иван! Трудно гадать, как для нас лучше — то ли до конца вместе держаться, то ли, наоборот, в одиночку принять свою долю. Если надеешься на себя, то... Решай! А я не хочу ни ждать, ни устраиваться здесь!
Мы зашли в какую-то избу, продали пальто сестры за сорок пять рублей. Двадцать рублей брат дал мне. Мы расстались. Произошло это как-то просто и сразу: ни тебе наказов, ни слез. Только и сказал:
— Желаю тебе, Иван, счастья!
Я смотрел на удаляющегося брата. И тут же посожалел и даже ждал: обернется, передумает, но нет, не обернулся. Все во мне окаменело: с самого раннего детства мы были дружны, он даже любил меня, я это хорошо знал, и вот... такой поворот.
Я возвратился в тот самый дом, где предполагалось устраиваться на работу. В нем по-прежнему было глухо, и я ощутил гнетущее одиночество, какого никогда не испытывал прежде. Оставаться и ждать я не мог и бросился догонять брата. За те короткие минуты брат успел удалиться, его уже не было видно, и, понимая, что шагом мне его не догнать, я попробовал бежать. Но хватило меня лишь на какие-то десятки метров — перехватило дыхание, закололо в груди, почувствовал усталость и слабость и совсем не мог бежать. С чувством невозвратимой утраты — разлуки с братом — побрел, едва переставляя ноги, соглашаясь уже с тем, что так суждено. Какое-то время я был как бы в забытьи: шел, ничего не видя. Когда же эта деревня (называлась она, кажется, Мурзинка) осталась позади, я понял, что день на исходе, явно вечереет, и где-то и как-то надо провести ночь. Эта мысль приглушила все прочие. Могло быть и так, что, попросись я в любую избу, меня пустили бы, и согрели, может, и накормили бы, но это было рискованно: могли бы и задержать. А впереди, неподалеку, сразу за околицей деревни, виднелась тайга. Решение пришло незамедлительно: "Будь что будет!"
В тайге, как бы ни была холодна апрельская ночь, пережить можно. Неожиданно раздвоилась дорога, я не мог знать, какая куда ведет. Раздумывать долго я, однако, не стал и взял более прямую, что уходила в тайгу прежде той, которая оставалась правее. О том же, что в тайге может оказаться хищный зверь, я не думал и страха не чувствовал. Наконец я сворачиваю с дороги, углубляюсь, где больше хвойных деревьев, и ломаю пихтовый лапник, там же нахожу мшистые кочки и сдираю с них коврики мха — в изголовье. Все это стаскиваю к подножью огромной ели, сразу же приметившейся мне отходившими от комля мощными, как бы вспучившимися над почвой корнями, и вот в ложбинке между ними устраиваю себе постель. Скрючиваю ноги к самой груди, обкладываюсь шматками мха, лапником. Ватничек встягиваю кверху, чтобы укутать и голову, сжимаюсь в комок и, вслушиваясь в тихий стон тайги, погружаюсь в мысли обо всем, что было, что есть и что может быть.
Это была первая ночь в моей жизни, которую я встретил один на один с тайгой в не очень-то теплое время под 23 апреля в районе Северного Урала.
Земля еще удерживала леденящий холод зимы. И я знал: чтобы не застыть во сне навсегда, должен сам сторожить себя. Потому та далекая ночь и запомнилась мне неизгладимо. Так, не позволяя себе шевельнуться, я лежал, объятый тревожными воспоминаниями о детстве: о матери, об отце, о братьях, о школьных друзьях и "пророческих" словах отца: "Ванька! — говорил он по случаю какой-то моей шалости. — Чем черт не шутит. Пострел — ума не приложу: способный шкет! По добру — быть ему мастером! А если же нет — Бог его знает, что получится. Может и жуликом стать. Закон ведь таков: или — или". И еще в ту памятную ночь вспоминались рассказы отца о всякого рода бездомных людях: о жуликах, босяках, скитальцах, бродягах, ночующих на чердаках, в подвалах, а то и вовсе в навозных кучах, пренебрегая грязью и стыдом. Он рассказывал с каким-то особым смакованием обо всей этой жути, без тени сочувствия и сострадания, без мысли о первопричине их положения, ради того лишь, чтобы погоготать, "порвать животы" над тем, как кто-то где-то выгнал здоровенного оборванца из пределов своих личных владений. И его, отца, слушали, и гоготали, и я — тоже.
Ночь, однако, прошла, и я был рад, что выдержал, не закоченел насмерть во сне, о чем случалось слышать.
Смахнув с одежды налипший лесной мусор, я было тронулся к тракту, но ноги не слушались, пришлось их тереть и разминать, топая на месте, пока не почувствовал их своими. Я не знал точно, как далеко до железной дороги, но догадывался, что осталось километров тридцать или немного больше. То и дело мне встречались или обгоняли меня подводы, тогда в тех местах — обязательно с колокольчиками под дугой, диньканье их слышалось задолго до появления самой подводы и как-то неприятно настораживало своей загадочностью. Я старался держаться бодро, не оглядывался, шагал пошустрее, что, по моим представлениям, как-то ограждало от подозрений. Но никто меня не останавливал, ничего не спрашивал. Был уже полдень, когда я услышал гудки паровозов. Сначала отдаленно и слабо, затем все явственней и ближе, а часа в четыре я уже был на станции Ляля.
Я хотел есть и сразу же поспешил узнать, есть ли на станции буфет. Надежда была на имевшиеся у меня двадцать рублей. Была у меня и самодельная справочка, состряпанная собственноручно, явно туфтовая, но при нужде, если спросят, я готов был предъявить ее, хотя молил Аллаха, чтобы пронесло. В буфете не оказалось ничего, кроме вареных яиц, цена которых была непомерно высока: рубль за штуку. Я купил два яйца и тут же съел их. Немного погодя не стерпел — купил еще два или три и тоже съел. Мог бы, конечно, съесть и десяток, но не решился: совсем не знал, что меня ждет, и мысль, где же буду ночевать, не покидала меня. Ведь я находился в райцентре, болтаться в залах ожидания было рискованно, как раз тут и встретится тот самый "Стоп", знакомство с которым уже случалось иметь.
Озадаченный заботою о ночлеге, я побрел в глубь поселка и сразу же заметил, что встречаются в основном люди заводские: в комбинезонах, в брезентовых робах, в промасленных куртках, шагают поспешно и привычно, как это и бывает у идущих со смены или на смену рабочих людей. Затем увидел скопление разного люда возле барачного вида строения. Подошел, прочел вывеску: "Управление Ново-Лялинского бумкомбината". Люди входили и выходили, беседовали и шумели, и я оказался в той массе не "белой вороной", а вроде таким же, как многие, и мне на душе стало легче, хотя само положение от этого и не менялось. Я вошел внутрь: коридор и двери, двери, двери с названиями отделов. Одна открыта настежь — "Отдел кадров". У барьерчика люди, поступающие на работу, и замечаю, что предъявляются всякого рода справки, но придирок никаких, и речь идет больше о жилье. Наконец моя справка тоже в руках ведущего прием. Помню, в ней значилось, откуда я родом, мой год рождения и что по происхождению и социальному положению я середняк.
— Ну вот что, — говорит мне работник отдела кадров, — могу взять в пожарную команду. Там у нас все такие же — юноши. Но жить-то где будешь? Общежития нет!
Я успел уже и обрадоваться, но тут же вижу, что преждевременно, и не нахожу, что сказать, стою молча. В эту минуту кто-то толкает меня сзади. Оборачиваюсь. Молодой мужчина небольшого роста смотрит на меня и говорит, что может пустить на квартиру в свой собственный дом.
— Оформляйся! — говорит.
Это было большой неожиданностью для меня, и, кажется, я ничего не ответил на его предложение, не приняв его за правду.
— Давай-давай оформляйся, и сразу же пойдем ко мне.
Оформление заняло буквально несколько минут: куда-то меня вписали, справку вложили в папку, тут же я получил записку к старшему пожарной команды лесосклада, и все так мгновенно, что во мне только и было: "Неужели так оно и есть?"
Мы идем по переулочку совсем незавидных хибарок, которые вряд ли можно назвать "домовладениями" — столь они жалки и убоги, как говорится, из мыльных ящиков, что я чего-то даже побаивался и не мог понять происходящего. Прошли метров двести и вступили в шаткие сени. Тут хозяин уточнил:
— Вот это и есть моя хата — мой простор!
Хатка была всего метров девять-десять, в соответствии с ней и печка. Но она была еще и перегорожена, так что для квартиранта предусмотрена отдельная комната, и была там сооружена из досок койка. Во второй — столик на крестовниках, скамейка, койка вроде бы на двоих.
— Вот видишь — живу один. Да, правда, была и жена — ушла! А одному скучно. Живи... пока. Все же не в бараке. Платы мне не надо. Раздевайся и привыкай.
Все это устраивало меня как нельзя было и мечтать, но хотелось есть, и я сказал об этом хозяину квартиры.
— А это проще всего: сейчас пойдем в нашу столовую. Завтра тебе дадут талоны, а сегодня поужинаем у меня.
Утром следующего дня я разыскал старшего пожарного, который проинструктировал меня и назначил на дежурство на лесной склад, где я был обязан с вышки вести наблюдение. Так я оказался в юношеской команде, где было до десяти человек примерно моего возраста, живших в отцовских семьях. Какая-то часть из них были комсомольцы, и жизнь их была ничем не замутненной. Смех и шутки среди них были обычны и постоянны, как только случалось им быть в сборе. Все они, по существу, никаких противопожарных знаний не имели, их задачей было просто следить и в случае чего сообщать по телефону в пожарное депо.
Сама работа, или, назовем, служба, была не тягостной. Голода тоже не было: по талонам получали завтрак, обед и ужин. Начислялась и зарплата, кажется, рублей семьдесят в месяц. Угнетало другое: нелегальность жизни. В первые же дни я узнал, что работающие на складе — спецпереселенцы, и это очень беспокоило. Рано или поздно может случиться, что среди них найдутся знакомые или хотя бы только слыхавшие нашу фамилию, и поскольку службу свою я нес рядом с ними, то боязнь опознания не давала покоя. А тут еще сама речь моя, как бы я ни старался, выдавала меня. В общем, положение было ненадежным, и вытерпел его я только три недели, хорошо помню: с 25 апреля по 18 мая 1932 года. В последний день моей жизни в Новой Ляле я выпросил авансом 25 рублей, пообедал в столовой и пошел прямо по шпалам на юг.
Идти было скверно. Шпалы лежали одна от другой на удалении менее шага, шагать через шпалу — слишком широко. Так я и семенил, ступая на каждую шпалу, как бы подсчитывал, сколько их на перегоне от Ляли до Верхотурья. В тот день зазеленели березки, что немного уменьшало мою печаль, прибавляло надежд: наступало тепло, а это было немаловажно для меня.
|