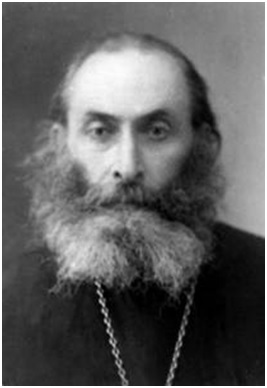 Протестантский экуменизм — явление новое, связанное с раскрытием завершительной стадии Апостасии. Оно сложно и в своем составе, и в своем происхождении и лишь постепенно раскрывает свою пагубную природу. В своем историческом возникновении оно уходит корнями в три цикла явлений. Прежде всего, надо учитывать атмосферу духовного оскудения, которая к началу XX века охватила протестантизм. Протестантское богословствование стало почти всецело университетским, рождая разные “школы”, возглавляемые научными авторитетами и сменяющиеся неустанно по месту и по времени, как это свойственно научному исследованию. Естественно было, в плане духовном, состояние безвыходной беспомощности, которое в огромной степени обострилось в результате потрясения, обусловленного Великой войной. Мировоззрение Запада до этого судьбоносного события было проникнуто пафосом прогресса, столь наивно-всепоглощающим, что даже внутренние потрясения и войны воспринимались, как эпизоды, в конечном счете, входящие с положительным знаком в торжествующее беспредельное восхождения “культурного” человечества. Великая война и все последующее разгромили это привычное благополучие, избаловавшее европейца, и подорвали само упование на естественное восстановление “прогресса.” Наконец — и это третье обстоятельство имеет первенствующую важность — возникла непосредственная массовая встреча европейца (мы имеем в виду преимущественно насельника Германии и Австрии) с Православием. То было разительное расширение духовного опыта — некое “открытие” христианским Западом нашего отечества, в его православной сущности, не только, как показал опыт, не заслуживающей пренебрежительного отрицания, а возникающей теперь в западном сознании, как некий спасительный светоч христианской Истины. Протестантский экуменизм — явление новое, связанное с раскрытием завершительной стадии Апостасии. Оно сложно и в своем составе, и в своем происхождении и лишь постепенно раскрывает свою пагубную природу. В своем историческом возникновении оно уходит корнями в три цикла явлений. Прежде всего, надо учитывать атмосферу духовного оскудения, которая к началу XX века охватила протестантизм. Протестантское богословствование стало почти всецело университетским, рождая разные “школы”, возглавляемые научными авторитетами и сменяющиеся неустанно по месту и по времени, как это свойственно научному исследованию. Естественно было, в плане духовном, состояние безвыходной беспомощности, которое в огромной степени обострилось в результате потрясения, обусловленного Великой войной. Мировоззрение Запада до этого судьбоносного события было проникнуто пафосом прогресса, столь наивно-всепоглощающим, что даже внутренние потрясения и войны воспринимались, как эпизоды, в конечном счете, входящие с положительным знаком в торжествующее беспредельное восхождения “культурного” человечества. Великая война и все последующее разгромили это привычное благополучие, избаловавшее европейца, и подорвали само упование на естественное восстановление “прогресса.” Наконец — и это третье обстоятельство имеет первенствующую важность — возникла непосредственная массовая встреча европейца (мы имеем в виду преимущественно насельника Германии и Австрии) с Православием. То было разительное расширение духовного опыта — некое “открытие” христианским Западом нашего отечества, в его православной сущности, не только, как показал опыт, не заслуживающей пренебрежительного отрицания, а возникающей теперь в западном сознании, как некий спасительный светоч христианской Истины.
Чтобы оценить радикальность такого перелома, возникшего таким образом, надо хотя бы получить малое представление о степени невежественного высокомерия, которое проявлял Запад, в частности германский, по отношению к нашему Православию. Приведем небольшую историческую справку.
Знаменитый историк литературы Ф. И. Буслаев, воспроизводя во второй половине прошлого века отзывы о русском церковном искусстве лучших германских специалистов, приводил следующие цитаты.
“Самая религия, — писал Шнаазе, — приняла характер отчуждающий; искусства, предназначенного ей в услужение, не могла она сблизиться с жизнью, и тем более достигала она цели, чем более получало искусство выражение окоченелости и безжизненности. Она не пробуждала высшего художественного чувства религиозного, которое в живом познает Бога...” Оттеняя особый характер архитектуры, автор писал: “архитектурные здания отличаются пышностью, пестротой, произволом и влиянием чуждых форм и воззрений; образа ужасают своей мрачностью: они боязливо придерживаются первобытного предания”. В чем причина этого убожества? “Благочестие состоит преимущественно в строгом соблюдении предписанных внешних обрядностей. Глубокое настроение духа, проникающее всю жизнь и запечатлевающее чувством Божества все духовные проявление, здесь не нашло для себя соответствующей формы... Зодчество посвящает свои произведения Божеству, но такому чувственному Божеству, которому оно должно льстить ослепительными красками и нагроможденными формами. Напротив того, в иконе Божество является человеку тоже чувственному: оно должно было явиться ему только в ужасающем виде. В Новгороде на одном колоссальном изображении Иисусовой главы читалась такая надпись: “смотри, как ужасен Господь твой” — этим вполне выражается чувство этого народа. Его благоговение основывается на страхе; ужасающее в его глазах подобает Божеству и заменяет красоту”.
В курсе эстетики Карл Лемке писал: “Русский исполнен коммунистических начал, но под деспотическим правлением, по религии и преданиям связан с Византией и наследовал ее ограниченность во всем, где только еще не сказалось западное влияние. Это особенно видно в образовательных искусствах, потому что они состоят еще в услужении религии. Схематизм, безжизненность и безвкусие — отличительные их качества, тупая восточная пышность заменяет в них красоту”.
В специальной работе, посвященной форме базилик у христиан первых столетий, Оскар Мотес посвящает две строчки нашему отечеству: “В России приходская церковь называется вассилии, другая большего размера кодопр”.
Отношение к нашей церковности, как к явлению варварскому, сохранилось в полной силе до самой Великой войны. Достаточно вспомнить, что писал о Православии крупнейших авторитет богословской науки протестантского Запада Гарнак, сам выходец из наших протестантских окраин, а потому более, чем кто-нибудь, способный говорить на основании известного опыта. В своей известной брошюре “Сущность Христианства” он показал, как низко оценивает он Православие.
Сопоставим это восприятие Православия с тем, которое возникло в итоге встречи с ним Запада в переживаниях Великой Войны. Тогда в сердцах западных людей родилась истинная жажда подлинной, реальной, живой Церкви. Никогда ранее она не принимала в Германии таких ярких и требовательных форм: душа прямо-таки рвалась из холода протестантизма и всех его культурных порождений — к теплу церковной благодати. Приведем лишь одну иллюстрацию такой тяги. Вот вольный перевод одного такого протестантского “стенания”:
“Мы, протестанты, подобны двум ученикам на пути в Эммаус. Как никакая иная часть христианства состязались мы о словах. С такой страстностью беседовали мы и совопрошали, какую только могла вызвать божественность предмета наших речей. Все высоты и глубины мы измерили под знаком Слова — все возможности теоретические, всю утонченность отрешенной от земли вдумчивости, уязвления разочарованной совести, принудительность систем, дерзость абсолютного протеста, страдания беспредельной раскрепощенности, восторженность профетического одиночества, весь обман бытия, исчерпывающего себя мыслью, диалектическую разорванность души, тоску и сомнение. А там — снова проникнутое верой отталкивание от земли — с сознательным низвержением себя в Богоотдаленность грешника. К пределу нигилизма вел нас исхоженный путь. Ибо пусть и горело у нас сердце, пока Он говорил нам, раскрывая писание — не узнавали мы Его: удержаны оставались наши очи. И так и не выходили мы за пределы того, что сами видели вокруг креста. Не наступает ли время, когда дню надлежит склониться к вечеру, и этот путь беседования и совопрошания, бушевания и уныния, вечнодерзновенного устремления к жизни, не дающей выхода, — не приходит ли он к концу? Не предлагается ли нам возлечь, чтобы удовлетворить голод за трапезой, за которой Он, благодаря и преломляя хлеб, — становится для нас видимым? Пусть не вразумительно нашему умному разуму то откровение Христианства, которое здесь сейчас будет явлено — все равно властно растет в душе, в самых ее глубинах, стремление ввысь, к этой святой трапезе. Это — голод души, которая иначе должна умереть, если ей не будет дана эта пища, которая есть Сам Бог!”
Не ярко ли это свидетельство в устах члена евангелической церкви П. Шютцу, в его книге “Евангелие, изложенное для современного человека” (1940)? Оно приведено в более поздней книге Карла Фритца “Голос Восточной Церкви”, в которой обстоятельное введение предпосылается небольшой православной хрестоматии. Возникла целая литература этого направления — и надо поражаться, к каким порою радикальным выводам приходила она, не только безответственно-литературным, но и продуманно-богословским, как будто уже приближающим западное сознание к самым вратам Православной Церкви. Остановимся на одном из самых ярких проявлений, на послесловии Х. Эренберга в кошерной хрестоматии восточного христианства, выпущенной нашим соотечественником Н. Бубновым совместно с названным немецким ученым (1925 г). Это послесловие необыкновенно интересно, но мы ограничимся извлечением мыслей, непосредственно отвечающих поставленному выше вопросу.
— Европеизация России была вещью неустранимой, — русификация Европы есть явление чудесное. В естественном порядке побеждает Россия — то есть Христос, а не Россия. В результате современной псевдоморфозы Россия становится европейской, а Европа христианской. Европа остается существовать, но открывается новая эра ее истории. Обстоятельно раскрывает автор свое понимание различия русского типа и типа европейского — в области сознания: это различие он сводит к тому, что европеец всегда мыслит как некое “я,” проникнутое “язычеством” своей личности, тогда как русский мыслит, как составная часть некоего “мы” — и это и оцерковляет его сознание. Это “мы” есть производное от Церкви? ... “мы,” то есть члены Церкви. И вот через Церковь и лежит путь сближения Запада с Христом, через церковный опыт России, воспринятый Западом. “Общая почва между русскими религиозными философами и нами лежит в принципе духовной действительности Церкви (Еф. 4:5). Церковь не второй Христос (по католическому воззрению), не просто средство или орудие Христа (по взгляду современного протестантизма), но в высшей степени действительно видимое Тело Христово, Глава коего только никогда не видима на земле, так как вознесшийся Христос обитает на Небе”.
Обращаясь далее к более детальному раскрытию этой мысли, автор оттеняет своеобразие мышления русских: их мышление исполнено веры, их вера исполнена мысли. И в этом они прямо стоят на плечах Отцов Церкви. Догмат Троицы для них не предмет спекулятивного мышления, а предмет опыта и жизни. Какая разница по сравнению не только с протестантизмом, но и с католицизмом, чье богословие, в сущности, перестало быть опытом Церкви, а стало предметом университетской науки. А что является природой университетской науки — если не принципиальный релятивизм? Надо искать спасения, и где же его найдешь, если не в Церкви? Тут автор переходит к сжатой, но очень сильной и убедительной, исчерпывающей все оттенки вопроса, критике Церкви Евангелической — не найдет ли там решения, выводящего из тупика. Где же надо его искать? Читатель подготовлен к ответу, столь же радикальному, как весь ход рассуждений, но тут-то и обнаруживается отравленность сознания. Во мгновенье ока происходит подмена созревшего, казалось бы, духовно-правильного решения его ядовитым суррогатом. “К истинному учению, в силе и духе, и к живой силе слова, не вернемся мы в Евангелической Церкви, как ни в одной из других Церквей, а только в общей Церкви, в которой каждая отдельная Церковь воскреснет в Святом Духе”.
Сущность экуменизма
Откуда эта ядовитая подмена? Это — дело “экуменизма”.
Мечта “экуменизма” подменила реальность Церкви, открывшуюся было протестантскому сознанию. Эта мечта, обманно оправдать новую направленность сознания, тут же утопила благие — истинно благие! — порывы в тумане утопического переливчатого, сочетавшего в себе все оттенки всего возможного, “панхристианства”. В итоге этой подмены создались условия, в которых европейский протестантизм оказался перед лицом Православия, теперь обстоятельно и “объективно” сочувственно научно изучаемого — нечто созвучное “обновленчеству”, в России приобретшему такую оправданно плохую славу. То богословское направление, господствовавшее в нашем отечестве, которое обратило западную школу на соответствующую трактовку Православия, естественно нашло общий язык с западным устремлением к Православию, открыв тем самым легкую возможность Западу усвоить Православие не подлинное, а уже “адаптированное” для западного сознания.
И тут Западная мысль встретилась уже не просто с западническим истолкованием Православия, а и с готовыми “мудрыми” ответами на все то новое, что в своем отступлении видел перед собой христианский мир. В какой мере западная экуменическая установка сознания есть подсказ русской богословской мысли, можно узнать очень просто: познакомиться с вдохновенным очерком экуменического сознания, “профетически” программным, сделанным одним из властителей дум — прот. о. Сергием Булгаковым. Мы имеем в виду его статью к сборнику “Христианское воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании”. Характерен уже подзаголовок этой статьи (“У колодца Иоаковля”): “О реальном единстве разделенной церкви в вере, молитве и таинствах”.
Есть “Церковь” — но тут же налицо “церкви”: как же совместить это, где же единая церковь? Экуменизм и должен, уточняя различия, родить сознание единства. “Экуменизм сам по себе есть опыт такого единства, новое о нем откровение”. Там, где, казалось бы, нет исхода, в экуменизме он возникает и это не соглашением, а Духом Святым, “новым вдохновением, его же чаем”. Экуменизм не идея, а факт — такого нового откровения: “его нам дано опытно переживать, как благодатное веяние Духа Божия, как явление Пятидесятницы, когда люди начинают взаимно понимать друг друга в разноречии своем”.
Особое значение придает автор молитвенному общению. Сейчас нет ни с чьей стороны наступления, падает оборона, нужно думать о том, что нас соединяет, что является для нас общим, несмотря на разделение. Опознание этой общности и есть смысл экуменизма, несущего в себе “новое откровение вселенской Пятидесятницы”. Автор верит в христианство “вообще”, в панхристианство, в такое христианство, которое может быть вынесено за скобки, как общее для всех исповеданий. Он приветствует и то молитвенное общение, которое пока происходит у нас как бы обычным порядком. Но он ждет в дальнейшем его уставного закрепления. Общность достигается и через слово Божье: “искренние и благоговейные читатели Евангелия через то уже в Церкви, в Церкви единой, Евангельской.” Но главное — духовный опыт. Для всех доступен мистический язык, и в этом смысле “духовная жизнь... больше соединяет христиан, нежели догматическое сознание.” Автор апеллирует к собственным переживаниям: “в течение Лозанской конференции... это чувство некоего общего духовного опыта, единения во Христе, достигало чрезвычайного напряжения”. И тут опять поминается “новое явление Пятидесятницы, которого чаем, но частично уже и обретаем.” Здесь видит о. Сергий некое “таинство,” которое позволяет духовно сопричащаться единого Христа задолго до того, когда может совершиться фактическое причащение из одной чаши. Приветствует о. Сергий, что былое “обличительное” богословие приобретает ныне все больше характер богословия “сравнительного”.
Самое понятие “еретичества” требует пересмотра! То, что за частную ересь анафематствуется весь человек — неправильно, пусть так и было в продолжение всей истории христианства. Еретиков “вообще” н е т. Еретики погрешают лишь в частности. То — болезнь повреждающая, но не убивающая. Оттенок ереси о. Сергий видит и в односторонности православного сознания: “В этом смысле все окажутся, может быть, еретиками, в разной степени и разном отношении”. Анафема — лишь дисциплинарная мера. Не упраздняется ею все церковное бытие. “Ибо — надо и это громко сказать — и еретики находятся в церкви, и меру гибельности для их еретичества нам не дано знать”.
Предостерегает о. Сергий против преувеличения доктринальных различий в области евхаристического богословствования. Он не удовлетворен ответом еп. Феофана относительно протестантов: “по вере из дано будет им.” Он считает, что даже при отсутствии общения в таинствах, находимся мы невидимо в церковном общении: совершившееся разделение не проходит до дна, оно ограничено и не разделяет Тела Христова, Церкви Его. В отношении католицизма он готов идти дальше: “В своей таинственной жизни Церковь остается единой”, “соединения церквей здесь и не требуется”.
Вообще о. Сергий считает ошибочным мнение, будто общение таинств предполагает предварительное догматическое соглашение. Это — аксиома мнимая. Надо ждать веяния Духа Божия, и братство тем самым явится. “Ни гордый и властный Рим, живущий в католическом священстве, ни застывший в вековой самообороне Восток, видящий врага и поработителя в каждом католике, не могли и не могут до сих пор сделать этого шага, забыться в порыве любви церковной... Но путь к единению Востока и Запада лежит не через Флорентийскую унию и не через турниры богословов, но через единение перед алтарем. Священство Востока и Запада должно сознать себя единым священством, совершающим единую Евхаристию, приносящим единую жертву, и для воспламененного этим сознанием священства отпадут, как картонные преграды, все препятствия к единению в таинстве. Сие и буди, буди”.
Итак, единство Церкви уже есть — в ее таинственных недрах. На путях экуменического единения его надо осуществлять, не придавая нарочитого значения самим догматическим различиям... Если для католицизма эти слова в те времена оставались словами, то, напротив, легко себе представить, какой резонанс должны были они находить в сознании протестантизма, с проснувшейся в нем тягой к Церкви. Эта тяга обретает здесь реальные возможности, позволяющие не отказываться от своих заблуждений, а нести их, так сказать, в общую сокровищницу церковного достояния, которое, как мы видим, является одновременно и вместилищем никого не минующих заблуждений. Так, в процессе экуменического единения, сможет человечество приближаться все более к вожделенному идеалу единой церковности. Один из виднейших знатоков православия в Германии, проф. Эрнст Бенц, так определяет природу отсюда возникающей новой науки “экуменики”:
— Что означает сосуществование стольких “других” церквей и к чему обязывает каждую отдельную церковь сожительство с ними? Члены каждой отдельной церкви должна поставить себе вопрос: “Что означают для меня эти другие церкви — применительно к той единой, святой, всеобщей Церкви Иисуса Христа, которую мы исповедуем?” Должны они поставить себе и другой вопрос: “Что означает моя церковь для остальных церквей, с этой же точки зрения, то есть применительно к единой Церкви, нами исповедуемой?” “Экуменика”, как наука, и исходит из предположения, что имеется налицо сознание, соответственное этим двум вопросам. Веруют и исповедуют все единую Церковь и взаимно признают друг друга сохристианами и попутчиками, ибо членами церквей, в каждой из которых должна быть признана некая специфическая правда, которую они исторически представляют. Отсюда двойная готовность. Во-первых, на другом опознается своя ограниченность, а отсюда рождается искренняя самокритика, отправляющаяся от уяснения чужой правды и делающая выводы о своем несовершенстве, с точки зрения единой святой всеобщей Церкви. Каждая церковь спрашивает себя перед лицом других: правильная ли я, какова я есть? Но возникает и иная готовность: оказать помощь другому для преодоления его несовершенства, в его отстоянии от подлинной кафоличности. Отсюда право и ему поставить вопрос: “а ты-то, правилен ли, с точки зрения всеобщей Церкви?” Неразделимы в экуменическом сознании, как готовность усомниться в своей правде, так и правомочие поставить под вопрос чужую правду. “Только все три куска разбитого зеркала, образно говорит проф. Бенц, — могут дать возможность угадать потерянный облик церковной целостности”. |


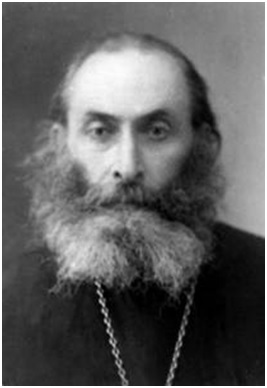 Протестантский экуменизм — явление новое, связанное с раскрытием завершительной стадии Апостасии. Оно сложно и в своем составе, и в своем происхождении и лишь постепенно раскрывает свою пагубную природу. В своем историческом возникновении оно уходит корнями в три цикла явлений. Прежде всего, надо учитывать атмосферу духовного оскудения, которая к началу XX века охватила протестантизм. Протестантское богословствование стало почти всецело университетским, рождая разные “школы”, возглавляемые научными авторитетами и сменяющиеся неустанно по месту и по времени, как это свойственно научному исследованию. Естественно было, в плане духовном, состояние безвыходной беспомощности, которое в огромной степени обострилось в результате потрясения, обусловленного Великой войной. Мировоззрение Запада до этого судьбоносного события было проникнуто пафосом прогресса, столь наивно-всепоглощающим, что даже внутренние потрясения и войны воспринимались, как эпизоды, в конечном счете, входящие с положительным знаком в торжествующее беспредельное восхождения “культурного” человечества. Великая война и все последующее разгромили это привычное благополучие, избаловавшее европейца, и подорвали само упование на естественное восстановление “прогресса.” Наконец — и это третье обстоятельство имеет первенствующую важность — возникла непосредственная массовая встреча европейца (мы имеем в виду преимущественно насельника Германии и Австрии) с Православием. То было разительное расширение духовного опыта — некое “открытие” христианским Западом нашего отечества, в его православной сущности, не только, как показал опыт, не заслуживающей пренебрежительного отрицания, а возникающей теперь в западном сознании, как некий спасительный светоч христианской Истины.
Протестантский экуменизм — явление новое, связанное с раскрытием завершительной стадии Апостасии. Оно сложно и в своем составе, и в своем происхождении и лишь постепенно раскрывает свою пагубную природу. В своем историческом возникновении оно уходит корнями в три цикла явлений. Прежде всего, надо учитывать атмосферу духовного оскудения, которая к началу XX века охватила протестантизм. Протестантское богословствование стало почти всецело университетским, рождая разные “школы”, возглавляемые научными авторитетами и сменяющиеся неустанно по месту и по времени, как это свойственно научному исследованию. Естественно было, в плане духовном, состояние безвыходной беспомощности, которое в огромной степени обострилось в результате потрясения, обусловленного Великой войной. Мировоззрение Запада до этого судьбоносного события было проникнуто пафосом прогресса, столь наивно-всепоглощающим, что даже внутренние потрясения и войны воспринимались, как эпизоды, в конечном счете, входящие с положительным знаком в торжествующее беспредельное восхождения “культурного” человечества. Великая война и все последующее разгромили это привычное благополучие, избаловавшее европейца, и подорвали само упование на естественное восстановление “прогресса.” Наконец — и это третье обстоятельство имеет первенствующую важность — возникла непосредственная массовая встреча европейца (мы имеем в виду преимущественно насельника Германии и Австрии) с Православием. То было разительное расширение духовного опыта — некое “открытие” христианским Западом нашего отечества, в его православной сущности, не только, как показал опыт, не заслуживающей пренебрежительного отрицания, а возникающей теперь в западном сознании, как некий спасительный светоч христианской Истины.