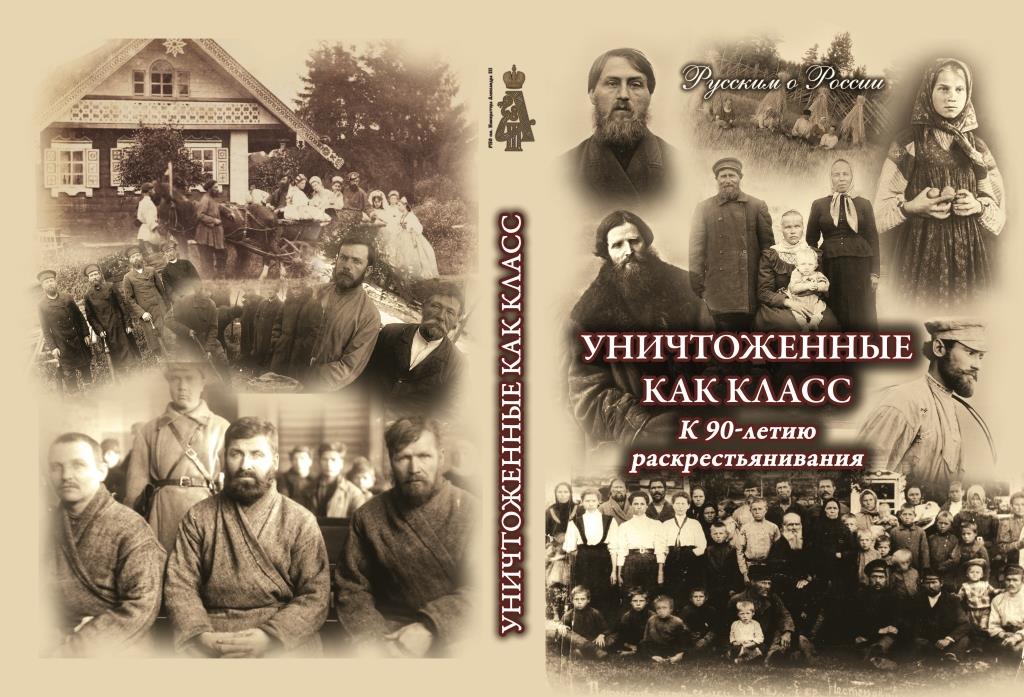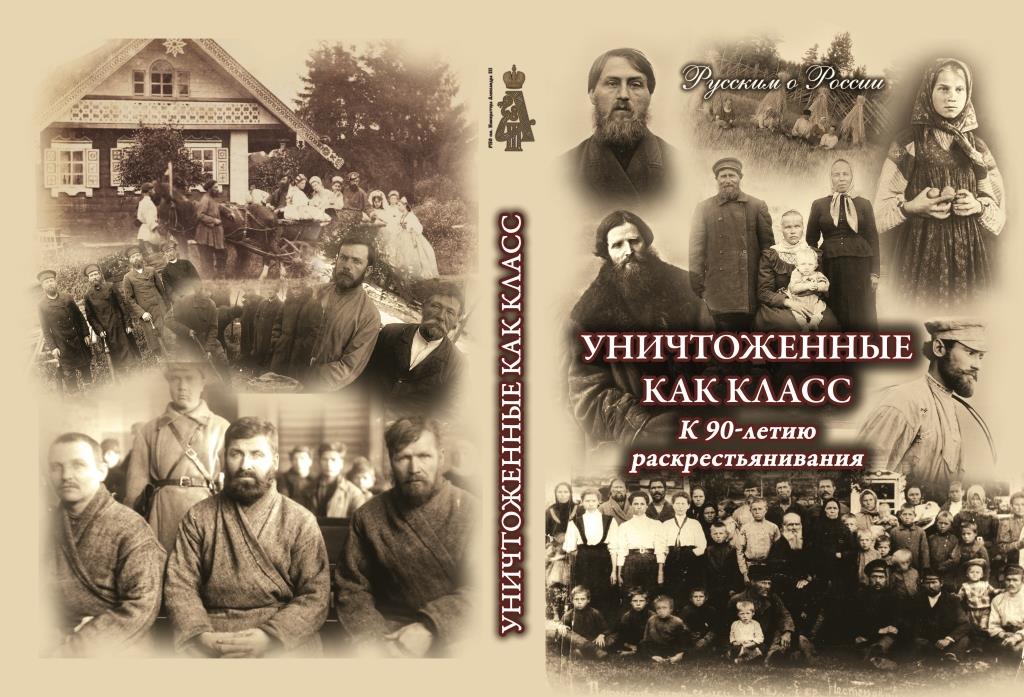
Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/
По лесу шла баба с рукой на перевязи. На работе она порубила руку и шла теперь на деревню к фельдшеру. Была она женой кулака и находилась, вот уже второй год, в лесу на лесозаготовках, вместе с девкой-дочерью. А мужа ее и старшего сына сослали куда-то в Туркестан, в такое место, имени которого она не могла бы и выговорить; считала только, что было оно где-то на краю света, там, где “пустыни зыбучие и пески горючие”, как слыхала в сказках в детстве. Был у нее еще один сын, но когда выселяли их из деревни — мужа в тюрьму, а ее в лес, — то увезли мальчика в детский дом, и прошлой весной он умер там, девяти лет, от скарлатины. Она поспела из леса тогда только уж к похоронам.
Вышла она в деревню рано утром; над землей был туман, а небо — все в тучах. Стояли последние дни августа, бабье лето. На севере лето ломается разом об одну ночь: в середине августа еще жара, густо налитые зноем дни с грозами, рожь еще отдает зеленью, а через неделю небо вдруг сильно бледнеет, подымается, дни идут все еще погожие, но уже прохладные, воздух пронизан волокнистым серебром; надо спешить убирать урожай — близки осень, заморозки. Все время стояла хорошая погода, и баба, выйдя утром из барака, подумала с испугом: неужто осень пошла, не может того быть!.. Ближе к полдню прямо над головой небо стало разводить. Как крестьянка, она знала, что теперь прояснит. Если разводит с краев, то нельзя дать поруки, а если к полдню над головой, то непременно разыграется, будет вновь погоже. Синий просвет рос на глазах, тучи растаяли почти мгновенно, и мир, весь в росе, как в слезах, заиграл в солнечном свете. Бог ведро дает, подумала женщина с радостью. Время было самое горячее для крестьянина, каждый погожий день дорог. Но потом она вспомнила, что ей, в сущности, ведь все равно — стояло ведро или непогода, ибо она уже не крестьянствовала больше, урожаю не снимала, и вообще, вся жизнь ее была уже не та, что раньше. И радость ее перешла опять в ту неустанно сосущую боль, что носила она в себе эти два года, от которой спасеньем был лишь сон или немое оцепенение — ходить, потому что ноги еще ходят, делать, что прикажут, и не думать, не думать!.. Она приучила себя уже к этому состоянию и в лесу не выходила из него почти никогда, как и все, кто был там вместе с нею.
Край был глухой, дальний, лежал на берегу большой северной реки, покрытом еще вековыми лесами, и до революции текла здесь патриархальная жизнь, с обрядами и обычаями, нерушимыми за столетия; на старину эту съезжались смотреть даже иностранцы. А теперь стал он местом, вероятно, самых жестоких страданий, какие только творились на земле “во имя человеческого счастья”, и терпели эти страдания покорно сотни тысяч людей самых разнообразных племен и наречий. Были пригнаны в эти леса русские мужики с чернозему, и хохлы с Волыни, и казаки с Дону, черемиса и мордва, и какие-то совершенно дикие азиаты в шкурах, будто из кочевых времен, не понимавшие ни слова по-русски, не видавшие ни реки, ни лесу…
До деревни оставалось около трех верст. Баба шла по большой дороге, как корка спекшейся от долго стоявшей жары. Были уже знакомые с детства места: миновала она Чертов бор, которым пугали ребят, чтобы они не забегали далеко, за ним Маслянику, где тучами росли маслята; еще две болотины, бор, а там начнутся поля, станет деревню видно. Она шла не спеша, наслаждаясь тишиной и одиночеством, отдыхая от барачного шума, что окружал ее каждый день, и на душе у нее было легко, несмотря на то, что порубленная рука болела и сама она боялась наказания за самовольный уход с работы. Она не была, впрочем, даже уверена — не своей ли волей порубила руку, такая тоска взяла ее вчера по деревне, по родным местам, по могиле сына, такая потребность сходить туда и вместе с тем глухая надежда — нет ли письма на почте от мужа и не переменилось ли что-нибудь?.. За самовольную порубку руки — она знала это — грозила тюрьма. Что же, не она одна!.. Многие так делали. Пошлют, может, к мужу?.. — пришло ей радостно в голову. А как же тогда Анютка? — подумала она тотчас же с испугом о дочери. Да ведь я не нарочно, не самовольно порубила!..
На плечах у нее был рваный коричневый домотканый зипун, на ногах — лапти и онучи, перевитые веревкой, а на голове — ситцевая ширинка, вся в копоти. Из-под ширинки выбивались уже седеющие волосы, а лицо было еще молодо, только посерело все, как после болезни, и глаза совсем выцвели. Несомненно, она была сильна и красива в свою пору — и еще не так давно — красотой северных русских баб с их крупным белым телом, льняным цветом волос, светлой голубизной глаз, с румянцем на щеках, ярким, как раздавленная малина. А теперь сквозь испитую кожу сильно проступали синие вены, столь туго налитые, что, казалось, они вот-вот лопнут. Порубленная рука на перевязи была укутана в грязную тряпицу и походила не на руку, а на грудного младенца в пеленках.
Скоро начался последний бор перед деревней. Старый, вековой, его берегли почему-то, не рубили. Сосны давно уже перестали расти, вершины их поседели, стволы неровно раздались в ширину, кора полопалась, надулась жилами, как старческая кожа; с ветвей свисали зеленоватые космы. Ребята из деревни любили этот бор. Водилось в нем, среди белого мха, каждое лето много белых грибов, всегда целыми выводками, как будто отец семейства вышел с ним на прогулку. И сейчас она вспомнила заветные места, отклонилась от дороги, и действительно, там стояли белые грибы — целые выводки! Она ломала и клала их в корзинку, каждый раз радуясь удаче, и чувство сосущей тоски понемногу утихало, как утихает на время зубная боль. Идти было мягко, ноги отдыхали во мху, а бор стоял, весь пронизанный светом, духом смолы, подгоревшей хвои, теплой земли, совсем как в детстве. Деревья глухо вздыхали, будто во сне, а по верху катился тихий, успокаивающий гул, какой слышишь, когда припадешь к земле ухом. Иногда выплывали между дерев зеленые полянки, сплошь залитые светом, и становилось особенно грустно при виде их, и невероятно, что лето уходит, так противоречил этой мысли их радостный свет. Баба шла под тихим гулом, под серыми лапами сосен, то по мху, то по рыже-розовой хвое, накалившейся до того, что тепло достигало ноги даже сквозь лапоть. Ей стало жарко, она скинула ширинку с потного лба, обнажив простое и смиренное крестьянское лицо, и с виду казалось — вот идет русская баба домой, утомленная работой. Ей и самой так иногда казалось. Она думала, что бор скоро кончится, пойдет березовая рощица, а перед тем овраг, в овраге — талец с ключевой, студеной “святой” водой, где можно напиться.
Лес обрывался на крутом берегу оврага; из песчаных боков торчали старые корни, как лапы чудовищ; две сосны уныло застыли над бездной с обеих сторон, сплелись друг с другом, будто в предсмертном объятии, перед тем как рухнуть. Она спустилась осторожно в низ оврага, осыпая песок. Здесь было сыро, студено, тенисто; небо отсюда казалось темней, ниже, стояло, как крыша. Тропинка вела к тальцу под старой одинокой березой. Уже издалека было слышно, как бурлила вода, а сам талец был на удивленье маленький, как будто здесь только глубоко завязла ногой лошадь. Под березой лежал ковшичек из бересты. Баба припала на колени, зачерпнула дополна ковшик и отпила несколько глотков, обжигаясь холодной и чистой водой. Родник этот считался святым, и она не чувствовала в воде ни вкуса болота, ни вкуса трав, а казалось ей, что пила она некую животворящую влагу, исходившую из заколдованных недр земли, где великий холод и великая тайна; самое бурление воды в темном колодце наполняло ее некоторой жутью, будто ворчал глухо кто-то таинственный под землею. И по мере того как она пила, словно свершая таинство, рождалось в ней знакомое чувство успокоенности и надежды. Выпив до дна, она утерла рукавом губы и положила ковшик обратно на старое место: он был еще совсем цел, а будь он ветхим и распадись после питья, надо было тут же сделать новый из бересты — так полагалось испокон веков.
Березовая рощица была уже вся золотая. Кое-где среди золота выбивались зеленые, нежно-перистые листья и спело-красные гроздья рябины; издалека казалось, что стаи птиц кружатся, широко раскинув крылья, над яркими цветами. И была такая поразительная, старо-знакомая и грустная красота в сочетании этих точеных листьев рябины, ярко-красных ягод, трепетного золота и бирюзы неба, — во всем этом осеннем умирании, — что сердце ее горестно рванулось от желания умереть вместе. А за рощей лежали поля, колосилась еще не снятая рожь, мотаясь во все стороны, тускло щетинилось жниво, по которому недавно проехала телега, оставив двойную серебристую колею; розовела глина невозделанных полос. Вдали на горбу паслись пестрые коровы, люди работали на полях, еще дальше сверкал в нежарком солнце крест церкви над домами и лилась, неисповедимо куда, светящаяся Божья даль!.. Это был ее старый мир, где она родилась и росла, где прошли все счастливые годы. Господи, до чего хорошо! — вздохнула она. Тропка, утоптанная, как камень, вилась меж полос к деревне. Баба пошла по ней. Сбоку по дороге лошадь везла воз со снопами, наверху сидел парнишка, а рядом шел мужик — все было, как раньше. Радость охватила все ее существо, та радость и волнующая тяга к крестьянскому труду, что знавала она прежде об эту пору, когда кончался урожай, доваживали последние снопы на деревне, пекли пироги, кормили, поили в последний раз наемных жнецов; девки и парни пели и плясали до самого утра. Она шла, полная счастья, как будто текли на самом деле те старые дни, и иногда, словно пробуждаясь, спрашивала себя недоуменно — да точно ли все это в прошлом? И не верила, не хотела верить, — столь сильны были власть земли над нею и эта тяга к мерному течению времени, когда покос переходит в жатву, жатва в молотьбу; все так размеренно, ясно и просто. Но, оглядываясь, она замечала с испугом, как много запущено полос, оставшихся в прошлом году без засева, и спрашивала себя с тоскою: Боже ты мой, неужели все прошло? Да что же это такое?
Бабы в красных платках копали картофель. Они были незнакомы ей, слыхала — пригнали в колхоз работниц с фабрик из города.
— Бог в помощь! — Она поклонилась по старой привычке. Бабы подняли головы и захохотали, не ответив. Она уже привыкла к тому, что на нее или злобно кричали, или, в лучшем случае, не отвечали, и прошла смиренно мимо. На минуту подумала только с горьким недоумением, зачем нужно было присылать сюда на их место этих фабричных девок, не умевших толком даже копать картофеля, не то что жать или косить, и не в том ли все дело и вся беда, что кто-то теперь неумело расставлял работников. Но так как она была непривычна думать, то не могла довести свою мысль до конца. Всю свою жизнь, в сущности, она привыкла подчиняться чужим воле и разуму — сначала родителям, потом мужу, а после и детям, а главное, какому-то нерушимому распорядку, благодаря которому прежде всегда было ясно, что и когда нужно было делать, будь то зима или лето. Давал этот распорядок некто по имени Бог — так учил поп в школе, — и представляла она Бога хотя и всесильным и всемогущим, но отнюдь не непостижимым существом, а скорее мудрым Хозяином всей жизни, а землю — Его хозяйством, которое он искусно вел и всегда видел, когда чего-нибудь недоставало. И если что-нибудь в хозяйстве шло неисправно, то надо было просто обратиться к Хозяину и просить, смотря по тому, что надо — дождя или ведра, или помощи в болезни, или детей. Было у нее, правда, с детства смутное представление и о другом Боге, Боге Отце, страшном и грозном, но он стоял где-то за Сыном и за Его Матерью, за святыми угодниками, и обращаться к нему, в сущности, не надо было: люди не имели до него никакого касательства вплоть до самой смерти. А теперь все шло криво, не так, как надо, точно Хозяин не видел больше недостатков в хозяйстве: пригнали фабричных девок на поля, а их самих угнали в лес или пустыню, и вот — избы заколочены, скот падет, поля лежат под паром. Сколько запущено земли, — она оглянулась с тоской кругом, — лежит зря, ничего не родит, как бесплодная баба. И опять ей казалось, что Хозяин должен бы увидеть, в конце концов, непорядки и направить все по-старому…
Мышь перебежала через дорожку с одной стороны на другую, баба очнулась и услыхала, что ее кто-то кличет:
— Куда срядилась, Степановна?
То была прежняя соседка из деревни, Акулина. Муж Акулины раньше все ходил по фабрикам сезонным рабочим; семью ее теперь не разорили, а приняли в колхоз. Акулина тоже копала картофель.
— Бог в помощь! — опять поклонилась баба.
— Спасибо на добром слове. — И Акулина поклонилась: — Куда срядилась? Что с рукой — аль досадила?
— Дрова секла, засекла руку. К фельдшеру хочу. — Она хотела спросить, не слыхала ли Акулина чего нового, нет ли вестей от мужа, письма на почте, но не решилась из боязни узнать, что нового ничего нет. Ей хотелось по-прежнему твердо верить в перемену.
— Почернела ты вся, — сказала вдруг Акулина. — Всё печалуешь, верно? А не стоит, не стоит! Нигде нету жизни, все решили, везде горя.
И Акулина, как всякая крестьянка, стала жаловаться на свои невзгоды, которые ей только и были близки к сердцу, совсем забыв про встречу с соседкой, про чужое горе… Баба и сама не ожидала от Акулины сочувствия, даже слышала в словах ее фальшь и злорадство или упрек за прежнее довольство, хотя многодетную Акулину эту, чей муж беспросветно пил, она не раз выводила из нужды, и все-таки хотелось ей хоть кому-нибудь облегчить душу, рассказать про горькую участь, от кого-нибудь получить жалостливое слово.
— Иссохла вся, — сказала она. — Руки и ноги — что батожки. Все плачу. За что терпим? Всю жизнь работала, не покладая рук, недосыпала, недоедала…
— Э, девка, что вспоминать. Говорю — нигде жизни нету… А терпи — две жизни жить не будем, а одну как-нибудь проскитаемся. Акулине было совершенно все равно, и отвечала она, думая больше о себе. — Обыкнешь как-нибудь… Дело твое не первая молодость…
— Да я што, одна дорога в могилу. Девка на глазах гибнет.
— А кого Бог любит, того наказует, — продолжала Акулина, не слушая. — На сердце темно, а на душе добро… как поп, говорю, нигде жизни нету, — прибавила она, на этот раз, пожалуй, искренне, ибо девками вместе они играли, плясали, водили хоровод, и ей вспомнилось это все как-то вдруг, разом…
Акулина вытащила лопату и вывалила картофель. Вид этого действия был столь привычен, движение столь знакомо, что у бабы защемило на душе от тоски по крестьянской работе; она так и чувствовала лопату в руках, и вновь родилась в ней какая-то смутная надежда.
— Бог в помощь! — Она поклонилась и пошла.
— Живи хорошо, — ответила Акулина. — Заходи в избу вечером, — хотела она добавить, но не посмела, ибо за приют кулачки самой можно было угодить в ссылку. А соседка хотела было попроситься переночевать, но тоже не решилась, зная, что никто ей теперь не рад.
К кладбищу нужно было свернуть вправо; оно лежало одиноко в рощице в полверсте от деревни. Между ним и деревней тянулись длинные, пустые поля, разделенные межами, обросшие седой, короткой травой, как щетиной, и пыльною полынью и вереском. Здесь никто никогда не сажал, не сеял; кто и зачем разделил эти поля межами, в деревне не знали. Возделывать эту землю не полагалось, ибо лежала она вблизи кладбища и не годилась на потребу живому человеку. Боже упаси хлеб на ней ростить иль даже ягоды сбирать! Из деревни шла по полям дорога, посередине разветвлялась, один рукав вел к людскому кладбищу, а другой на майдан в бору, куда свозили падший скот.
Баба повернула на кладбище, не заходя в деревню, и вышла прямо на росстань посередине поля. Был уже полдень, но солнце пекло нежарко. День выдался уже осенний, успокоенно-прощальный, весь просветленный: лучилось небо цвета белой парчи, лучился стеклистый воздух, остро пахнущий остывающей землей, полынью, лучилась река вдали на лугу, и благоговейная тишина стояла кругом, как будто уходила чья-то душа к небу. “Божья благодать!” — подумала баба с легкой грустью. Вдоль ограды лежала золотая кайма березовых листьев, сама ограда во многих местах завалилась, овцы ходили по кладбищу — раньше этого не допустили бы. У кладбищенских ворот стояла одинокая старая сосна с черной вершиной. Необыкновенно сильно это дерево напомнило ей о прежней жизни, ибо было оно как-то неразделимо связано с деревней, — еще прадеды его запомнили, и когда возили на кладбище гроб, или служили молебен на поле, или просто возвращались из лесу в деревню, то первое, что бросалось в глаза, была старая сосна. Чем-то вечным и мудрым веяло от нее, как будто хотела она сказать, глядя на людей и скорбно качая своей вершиной: “Все вы пройдете мимо меня”. На кладбище всюду лежал овечий помет, и баба возмутилась — так строго блюли чистоту раньше на этом месте. Но все-таки царили тут та же прежняя тишина, великий покой, жались друг к другу кресты, точно люди, распростершие руки в безмолвной молитве, мирно росли молодые березы и сосны, а между ними, поблескивая, тянулась паутина цвета воронова крыла и облепляла бабе лицо, когда она проходила между деревьями.
Вот сбоку лежала могила отца Ивана под деревянным позеленевшим крестом — жил он в попах на селе больше 40 лет. Она вспомнила живо его фигуру в ветхой серой рясе, в соломенной шляпе, с удочкой в руках, — последние годы старик любил ловить рыбу. Чуть дальше был похоронен Василий Кожевников; и его она знала и помнила. Был он крикун и пьяница и до страсти любил менять лошадей с цыганами, сам весь черный, как цыган. Раз он нашумел на нее пьяный, и она осердилась тогда на него и пожаловалась мужу
— Вот и успокоился, Василий, — сказала она с любовью и жалостью к покойному и вместе с тем с болью, что все это уже прошло, — сделал последнюю мену… Всем один конец — все та же могила. — И было что-то успокаивающее в этом сознании, какая-то спасительная надежда. Она смутно чувствовала, что жизнь — что бы ни происходило на земле — для всех всегда неизменна, для всех одна и та же, и не для чего революции, не для чего злоба, впустую борьба и страдание людей — все дело лишь в том, чтоб прожить эту жизнь хорошо, чтоб было умиление и жалость, как сейчас у нее, чтоб не сгибло какое-то зерно в душе у людей, которое теперь у всех зарастало, — иначе не будет счастья на земле, хоть все разом стали бы и богаты и сыты и неустанно бы работали машины на потребу и усладу людскую… Кого Бог любит, того наказует, вспомнила она. Кто знает, может, это и было так. — И на душе у нее стало просто и ясно, хоть и грустно; была уверенность, что есть где-то ответ, что есть где-то Хозяин, который все видит и все слышит и услышит, если не сегодня, то завтра, ибо Он на всех один и все ему подответны.
Без призору на кладбище многие могилы провалились, кресты пали, из ям торчали черные сгнившие доски, обросшие мхом; синеющие кости валялись на земле. Кое-где вместо крестов стояли чурбаны с изображением красной звезды, и при виде их она чувствовала не то страх, не то жалость за тех, кто там лежал. Она шла и поправляла по пути покосившиеся кресты, складывала вместе и посыпала песком кости, и так подошла к могиле сына. Маленький крест стоял прямо, могильный дерн сильно пророс травой. А надпись на кресте, что она тогда сама с трудом сделала, наслюнявив карандаш, выцвела почти вся, остались только фамилия да годы…
“Ершовъ… 9 годовъ…” — прочла она свои неумелые буквы с легким испугом. Ершов — имя уходило куда-то вглубь, в землю, — знают ли там, что он звался Ершов, и надо ли это было кому-то?
— Паша, — сказала она тихо, и слеза покатилась у нее по щеке: — Спи, сынок.
Только так, только спящим она могла его представить себе; зеленые гнилые доски, источенные кости никак не касались ее сына, он шел другим путем. “Младенец будет в раю” — утешал ее в лесу ссыльный священник, — не плачь, не гневи Бога”, и она видела его идущим по облакам с белыми кудрями на голове, в пестрой рубашонке, подпоясанной узким пояском, босиком — как бегал он последнее лето. Она хотела перекреститься, потянула правой рукой — и острая боль рванула ей к плечу. Баба застонала. И так как молитва у нее была навсегда связана с крестным знамением и иначе молиться она не умела, то она утерла только слезы со щеки заскорузлой ладонью левой руки, обошла кругом могилы и села у изголовья. Из кармана армяка она достала сверток, развернула грязную тряпицу, в ней лежал ломоть черного хлеба, немного зеленого луку и соли. Бездумно, точно во сне, она отломила кусок, посолила, покрошила луку и стала есть, медленно и тяжело жуя воспаленным сухим ртом. Она ела, и слезы текли у нее по лицу, но не тяжелые, не безнадежные, а слезы воспоминанья, слезы о счастье в прошлом. Видела она раннее утро: солнце бьет в избу, и на полу на перине спят дети, все трое вместе под одним одеялом, — три льняных головки рядом на подушке, и плакала от умиления и смутного ожидания, что она еще увидит их так. От дороги она сильно устала и, как только села, почувствовала тяжесть, потребность к чему-нибудь прислониться, приклонить голову. Березка рядом ворошила уже сухой листвой, как будто ее кто-то легонько тряс за ствол; иногда падали отдельные желтые листья, кружась и трепыхаясь в воздухе, как подраненные птицы. И вокруг могил и вокруг берез тоже лежала золотая кайма, успокоительно действовали эти умирающие краски, неяркие лучи, роящиеся в молодых соснах, скольжение света по стволам, тишина и падающие листья… Ее клонило ко сну. Солнце пригревало мягко спину, сладко гудели ноги, ныла рука, и голова, тяжелая, запрокидывалась ко кресту, баба вздрагивала, просыпалась, гнала сон и вновь засыпала и падала головой. “Завтра Успение Божьей Матери, — бредила она во сне. Ахти, надо скорей идти, скоро коровы с поля вернутся, доить надо, скоро поп к вечерне зазвонит…” И она порывалась встать сквозь сон и не могла. И видела дальше, что полевые работы кончились, мужики сварили пива, купили водки; на улице стоят столы, а на них груды пирогов, яиц печеных, луку, большущие чашки щей с наваром, братыни с бражкой, и сидят вокруг столов мужики и “казаки”, как звали у них наемных жнецов, и бабы со всей деревни их угощают. Был за столом и ее муж Егор, весь красный, с расстегнутым воротом. “Надо бы он не напился”, — подумала она озабоченно. А на угоре хоровод, поют и пляшут девки и парни, играет гармонь! Потом откуда-то появились вдруг отец и мать, а муж стал совсем молодым, каким был женихом, и она сама, в подвенечном шелковом платье, стоит и кланяется: “Получайте, родной батюшка, кушайте, родимая матушка”. “Как же это так, невестой-то?” — удивилась она. Но подруги поют, как полагается, песни о “чужой далекой сторонушке” и величают ее и Егора “князь и княгиня”, она плачет, а их везут из церкви от венца, по деревне дико скачут верховые — “поезжане”, храпят, закидывая головы на сторону, кони; у ворот стоит народ, смотрит на подвенечный поезд…
Она всхлипнула радостными слезами и проснулась. Где-то гремела телега. Сначала баба ничего не поняла, а потом вспомнила все разом и оглянулась недоверчиво: не был ли сон действительностью, а то, что перед нею, — сном? На душе у нее стало совсем легко, была она теперь уже уверена, что ее ждет радость — может быть, муж вернулся домой, избу возвратили, и все они заживут снова вместе. Она собрала крошки с подолу, положила в рот и, встав с трудом, подошла к могиле и поклонилась три раза в землю.
— Прощай, Пашенька, — сказала она медленно и пошла прочь, все еще оглядываясь назад, с чувством не то горечи, не то стыда, что она все еще живет и надеется на что-то, тогда как его уж нет, и в то же время как-то извиняя себя, точно должна была она его еще увидеть по-земному, по-телесному.
И опять она вышла из ограды на мертвые полосы под желтым солнечным блеском. Ближе к росстани она заметила, что два мужика гнали двух коров ей на встречу. — Куда это? — постаралась она сообразить своим крестьянским умом, — куда к ночи коров, не на поскотину же? — Мужиков она почти тотчас же признала: один был коммунист из сельсовета, звали его раньше “Афоня бесштанный”, за то, что до 15 лет ходил без штанов — как дурачок, а другой — бывший мясник, хозяйство которого тоже было разорено, но самого его не угнали в ссылку, а приняли служить в колхоз к скоту. — Куда это они собрались? — недоумевала она и невольно ускорила шаги. Коровы брели тяжело, особенно одна, пестрая, с раздутым брюхом, едва переставляла ноги. Афоня бил ее хворостиной, корова шаталась, но не ускоряла шагу. — Да ведь корова-то стельная, подумала она, как же он ее, стельную, стегает? — Мужики выгнали коров на дорогу к скотскому кладбищу. Что-то необыкновенно знакомое поразило ее в пестрой корове. Она напрягла силы, почти побежала, чувствуя неладное. Корова была ее, их корова — Пеструха! Ее отняли у них два года назад вместе с другой, та с тех пор уж пала. Это была ее любимая корова, сразу баба не узнала ее, столь сильно изменилась скотина — брюхо раздулось, кожу покрыли парша, спекшиеся гнойные раны.
— Пеструха! — Баба кинулась к корове. Та подняла голову, повела мутными глазами и вдруг подалась всем туловищем, жалобно замычала, видно узнав хозяйку.
— Куда погнали корову? — приступила баба к Афоне. — Куда, я тебя спрашиваю?
— Куда, куда? — передразнил Афоня. — Не видишь сама, опаршивела вся… всех коров заразила. Ну, ты. — Он толкнул бабу кнутом в грудь: — Чего завыла? Кулачья шерсть! Небось, с работы ушла…
От толчка она упала на землю и, не в силах встать, лежала на земле, сотрясаясь от слез. Корова, отходя, мычала призывно, и так знакомо было это мычанье, так напоминало те невозвратные дни, когда, бывало, она у ворот своей избы поджидала вечером скот, возвращавшийся с поскотины.
“Да ведь корова-то холмогорка, лучшей породы, — она всхлипнула, — в день больше ведра молока давала, и такую корову на убой, на падаль!”
И только теперь она поняла вдруг неотвратимо — после того, как увидела эту свою корову — то, чего не поняла раньше, когда отбирали дом, уводили мужа, когда умер сын, — поняла в первый раз совершенно ясно и бесповоротно, что все, все кончено, ничто не возвратится, не будет, как раньше, что ей нечего больше ждать и не на что больше надеяться и что все надежды — один лишь самообман. Старая жизнь ушла, и если был раньше где-то Бог, то, должно быть, Он отступился от людей, от всей земли, ибо новые люди не звали, не искали Бога, и было ими что-то потеряно — какое-то самое главное зерно, главная искра, а без этой искры не могло быть никакой жизни, только усоба, страдание и тьма. Потери этого зерна люди не замечали. А может быть, и совсем не было того Бога, в Которого она верила, крестьянского Бога Иисуса Христа и Его Матери, а один лишь гневный и страшный Бог Отец, ничего не прощающий, жестоко карающий за грехи?
— Конец, — сказала она, — конец.
Так лежала она долго, лицом к земле, без движения. В небе высоко тянули журавли к югу, протяжно кричали. Ветер доносил сбоку гнилостный запах. Он шел от скирда соломы, который стоял у самой деревни. |