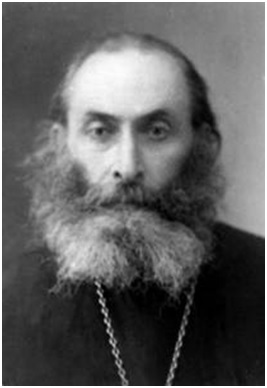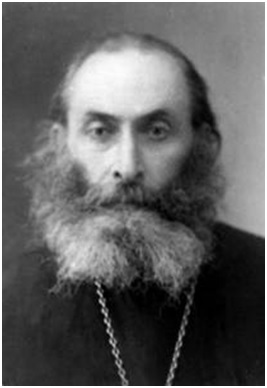 Культивирование “прелести” Культивирование “прелести”
Изложенное достаточно ясно раскрывает пропасть, лежащую между религиозным опытом латинства и подлинным религиозным опытом христианства, являемым Православием. “Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силой своего воображения мечты или картины”, — говорит еп. Игнатий Брянчанинов, в другом месте определяя подобное извращение молитвенного опыта акт “мечтательное, кровяное и нервное наслаждение”, доставляемое “тонким действием тщеславия и сладострастия”. “В молитве надо освобождаться от всех образов, утверждаясь наиболее в созерцании или сознании присутствия Божьего в сердце, безвидного”. “Воображение — способность формировать и удерживать образы — есть способность чернорабочая... самая низшая. Уже поэтому — не следует ему позволять являться со своими образами в высшую область, какова молитва... Вот где прилично: “друже, како вошел сюда?” Так говорит еп. Феофан. То, что с точки зрения православия есть опасное уклонение и даже искажение, то для латинства есть норма. И это можно было бы констатировать применительно к любым проявлениям религиозного опыта.
Приведенные иллюстрации достаточно выразительно показывают нам природу католического душепопечения, поскольку оно обращено на некий отбор, на “элиту”, на тех, кто, спасаясь, могут оказаться предназначенными для того, чтобы включиться в ряды спасающих. Известный русский историк П.М. Бицилли, специализировавшийся на средних веках, в одной из статей, посвященных католицизму, (сборник “Россия и Латинство”), охарактеризовал систему душепопечения, применяемую латинством к таким избранным, как ряд согласованных мер, имеющих назначением довести человека до “галлюцинаций, заранее предписанных и произвольно вызываемых.” Мы видели из приведенного выше материала, что подобное суждение не является ни предвзятостью, ни даже преувеличением.
Казуистика
Обратимся теперь к системе душепопечительных методов, обращаемых к массе — к широкому кругу окормляемых, к пастве. Эту систему М. П. Бицилли характеризует так: “Метод постепенного, незаметного вытравливания духа строптивости, критицизма, самостоятельности, наталкивая воспитываемого на пути наименьшего сопротивления, облегчая для него — вплоть до прямых сделок с совестью — задачу спасения души, избавляя его от необходимости — столь неприятной для большинства — избирать, подсказывая ему решения и принимая за них ответственность. Всего легче такое размягчение личности достигается, если за него взяться с детства...”
Размягчение личности! И это определение не содержит в себе большого преувеличения. Впрочем, едва ли к этому всегда приводит система, о которой идет речь. Может приводить она к огрублению личности, к затвердению в неправде. С непревзойденной силой свидетельствовал это великий Паскаль, когда в своих знаменитых “провинциальных” письмах с убийственной “наивностью” предавался размышлению по поводу казуистической оценки духовниками-иезуитами греховных поступков человека в зависимости от осознанной намеренности греха: “Я всегда думал, — рассуждает по этому поводу Паскаль-провинциал, — что тем больше грешат, чем меньше думают о Боге; но, как я вижу, если добиться того, чтобы уже совсем не думать о Нем, то все вещи становятся чистыми для будущего. Долой тех грешников наполовину, которые хоть какую-то любовь сохранили к добродетели — все они, эти полугрешники, будут осуждены. Но что касается грешников честных, грешников затверделых, грешников без всякой примеси, полных и законченных, то ад не держит их: они надули дьявола тем, что отдались ему”. Не нужно думать, что нужно прибегать к сатире для обличения подобных явлений: сочинение иезуитов, воспроизведенные в известной книге Ю.Ф. Самарина, выдержавшей десятки изданий, дают материал, превосходящий всякое сатирическое воображение. Но сущность не в тех или иных “казусах” — пусть иногда нарочито отталкивающих, — а в принципах, которые лежат в основе “казусов” и которые являются тяжеловесной реальностью вообще всякой духовнической практики католицизма. И амплитуда колебаний, испытываемая душой, подвергаемой такой духовной дисциплине, определяется как раз теми двумя крайностями, о которых мы только что упоминали: или это есть затвердение в грехе, лукаво пользующееся казуистикой для отведения от себя гнева Божьего, либо это “размягчение личности,” подавляемой дробной сложностью предписаний чисто формального характера, опутывающих всякое действие и изнемогающей в так наз. “скрупулезности” (от “скрупул” — угрызение). В мелочном исследовании греховности и в ее измерении, с точки зрения мер к отмытию ее (тоже часто внешних), чудовищные “принципы” оказываются применимыми. Каждый, вероятно, знает о так наз. умственной оговорке (резервацио менталис). Человек говорит одно, а думает другое, придающее иной смысл сказанному или его отвергающее — вот он и “оправдался”. Существуют принципы и иные. Чего стоит “направленность намерений”, то есть выбор, при оценке поступка, из многих возможных мотивов данного поступка именного такого, который делает поступок наиболее благовидным, наименее греховным, нейтральным. А допущение к суду совести такого фактора, как “пробабилизм” — на нем стоит остановиться.
Имеем мы учителей жизни перед собой и пытаемся следовать их примеру, их заветам. Понятно, что в отдельных случаях может возникнуть сомнение и спор — надо эти сомнения и пререкания объективно решать, приходя, по совести, к какому-то однозначному выводу, который и становится опорой совести. Можно ли представить себе свободу по мотивам целесообразности, выбора между разными взглядами? Оказывается — да.
“Опинио пробабилис” — “правдоподобное мнение”, это такое, которым я могу безопасно руководствоваться в своем поведении без опасения впасть в грех. Нахожусь я в сомнении относительно поступка, который намереваюсь совершить, или размышляю о поступке уже совершенном, под углом зрения его греховности. Как мне поступать? Искать ли истины? Нет. Я разворачиваю перед собой множество суждений, высказанных теми, кто по праву может почитаться учителями, наставниками, говорящими от лица Церкви. Я не обязан руководствоваться тем суждением, которое наиболее правдоподобно. “Пока мы основываемся в наших действиях на каком бы то ни было правдоподобии, хотя бы на слабом, до тех пор мы действуем благоразумно.” И так может действовать не только сам грешащий, но и тот, кто на духу оценивает поведение грешника. “Духовник может отвечать спрашивающему и руководиться при этом правдоподобным мнением, хотя бы чужим, если оно благоприятнее для спрашивающего, и устранить собственное мнение, хотя бы оно было правдоподобнее и безопаснее, ибо чем чаще духовник будет советовать то, что легче может быть исполнено спрашивающим, с наименьшим неудобством, тем лучшим прослывет он советником” (Самарин. “Иезуиты”). Здесь было упоминание о “безопасности”, “туциоризме” — это определение особо правдоподобного, а потому нарочито безопасного мнения — и оно может быть отвергнутым по соображениям целесообразности, — вопреки голосу совести. |