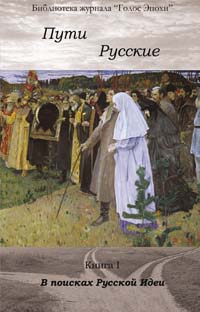 Многие русские умы отмечали ту особенность западноевропейской религиозности, что в отличие от русского православия, которое уповает на глубокую искреннюю веру - от сердца, рождающую в человеческой душе живую христианскую любовь и христианскую совесть, католицизм, подобно ветхозаветному и талмудическому иудаизму, требует внешнего благочестия, покорности священноначалию и жёсткого соблюдения предписаний. Очевидно, именно это и стало предпосылкой того обстоятельства, что Европейская цивилизация с началом Просвещения постепенно, но последовательно отвергает христианскую духовность, христианскую моральность и христианские основы общежития, на которых она возникла в конце 1-го тысячелетия по Р.Х., возросла в эпоху Зрелого Средневековья и Возрождения и достигла расцвета в Новое Время. Многие русские умы отмечали ту особенность западноевропейской религиозности, что в отличие от русского православия, которое уповает на глубокую искреннюю веру - от сердца, рождающую в человеческой душе живую христианскую любовь и христианскую совесть, католицизм, подобно ветхозаветному и талмудическому иудаизму, требует внешнего благочестия, покорности священноначалию и жёсткого соблюдения предписаний. Очевидно, именно это и стало предпосылкой того обстоятельства, что Европейская цивилизация с началом Просвещения постепенно, но последовательно отвергает христианскую духовность, христианскую моральность и христианские основы общежития, на которых она возникла в конце 1-го тысячелетия по Р.Х., возросла в эпоху Зрелого Средневековья и Возрождения и достигла расцвета в Новое Время.
Она рождает и начинает совершенствовать доктрину так называемого правового государства, в котором регулятором человеческого общежития становится не христианская совесть, основанная на божественной Заповеди, но сохраняющая свободу выбора, а жёсткие конвенциональные нормы, закреплённые в корпоративных правилах, городских уставах, государственных законах и т.д. То есть, не внутренний, но некий внешней, императивно налагаемый норматив, источником которого является человеческий разум, а не Божественная воля, выступает теперь и главным источником миропорядка. В сущности, в этом отношении Европа так и не смогла превозмочь иудейское ветхозаветное законничество, где единственная действенная основа миропорядка и главный критерий различения должного и недолжного, добра и зла – Закон.
Когда Гегель говорит об исторических народах и полагает европейцев таковыми, тут нужно уточнить, что Запад продолжает именно ветхозаветную историю. Совершив в Средние века и в эпоху Возрождения «прыжок из царства необходимости в царство свободы» совести, и заложив основы многих своих достижений, в частности, в области искусства, романо-германский Запад не удержался в Новой истории, которая даёт человеку почти безграничную творческую свободу, но одновременно предъявляет к нему новые требования и налагает на него громадную ответственность. Запад испугался этой ответственности и отступил назад - в историю Ветхую, в историю не совести, но Закона. Собственно, Запад морально никогда до конца и не выходил за пределы Ветхого Завета, его новозаветность всегда была не полной, ограниченной, а с началом Нового времени Запад постепенно возвращался в более естественное и органичное для германского духа ветхозаветное моральное и духовное пространство. Это сделало Запад конкурентоспособ-ным, успешным за счёт рассудочной дисциплины и холодного расчётливого цинизма по отношению к иным культурам, но в то же время предопределило узкие границы его морали, закрыло ему перспективу духовного роста, предопределило направление и содержание его вырождения, обрекло на постепенную духовую деградацию и установило планку его творческого роста. Ведь, творчество – категория духовная.
Нынешняя безрелигиозность и бездуховность Запада – одна их главных причин его творческого бесплодия. Кстати, природа знает такие механизмы, когда новые творческие потенции, новые горизонты, несущие в себе с необходимостью риски, приносятся в жертву адаптивности и эффективности. Зоологи, к примеру, находят организмы, в частности рыб, которые возникли миллионы лет назад. В то время как сотни и тысячи иных видов давно исчезли принесённые в жертву творческим исканиям природы.
В определённом смысле и западная демократия, перекладывая ответственность с личности на безличное и весьма условное «большинство», есть возвратный ход от Благодати к Закону. Но освобождение от личной ответственности есть одновременно и освобождение от личной свободы. Запад, откуда раздаётся столько трескотни о свободе, который объявлял себя «свободны миром», давно перестал не только понимать, но и искать подлинный смысл самого этого понятия.
Что же касается России, то не Законом, в отличие от иудаизированной Европы, но благодатью по завещанию владыки митрополита Киевского Илариона от века жила она. Православие над законом ставит Спасителя. Поскольку совесть это то, что связывает человека с Христом, то именно личная совесть, то есть Христос в душе – внутренний, но отнюдь не внешний императив есть высший судья при всяком нравственном выборе и источник миропорядка. Поскольку же Христос есть Любовь и Красота и Истина, то, следовательно, Любовь, Красота и Истина стоят над законом. Никакой закон, никакой устав, никакой «внешний» суд, никакая «демократическая процедура», ничто не освобождает человека от обязанности поступать по совести, следовательно, и от моральной ответственности за свои деяния. А это и есть свобода. Это конечно неизмеримо более сложная антропософия, но только в рамках такой антропософия человек становится подлинной личностью.
В русской богословской школе после недолгого увлечения латинством в 17-м веке южнорусского духовенства, давно и безоговорочно были отринуты концепты католической теологии. Экуменические идеи В.С. Соловьёва в веке 19-м поддерживать также оказалось некому. Почвенники экуменизм решительно отвергли, а западники вовсе не питали интереса к христианской теме. В сфере философской мысли выхолощенный французский рационализм всегда был чужд русскому пытливому уму, ищущему проникнуть в сокровенное. Да и соблазны немецкого идеализма, в котором русская и европейская интеллектуальные рефлексии смыкались теснее всего, начали преодолевать уже славянофилы, решительно отвергшие германский отвлечённый логизм. И, если европейские умы стремились в начале выделить философию из религии, а, начиная с эпохи Возрождения, исторгнуть религию из философии, то русские, напротив, стремились соединить таковые, вернуть в философию живого личного Бога.
Когда Пушкин в «Евгении Онегине» сетует:
«Нам просвещенье не пристало
И нам досталось от него
Жеманство, - больше ничего»,
Он, в известной мере, прав. Однако есть ли повод для сожалений. Ведь содержанием и осмысленным заданием европейского Просвещения было ни что иное, как секуляризация сознания и культуры. Весь пафос Просвещения был в отрицании религии и Бога, умалении роли церкви и духовенства, освобождении человека от довлевших ему жёстких христианских этических норм. Благородный и искренний человеческий инстинкт познания был мобилизован европейскими просветителями для борьбы с христианской определённостью, христианской обусловленностью европейской культуры, любое достижение человеческого разума на пути познания использовалось для вульгарной антирелигиозной антихристианской пропаганды. Но ведь Бог христианства есть, как уже замечено, ни что иное, как Любовь, и Истина, и Красота. В логике же европейский просветителей, если Земля круглая, если она вращается вокруг Солнца, а не стоит на трёх китах, значит, нет христианской души, христианской совести, страданий на кресте, вечной жизни, мук ада и т.д.
Русскому человеку просвещенческие позитивизм и релятивизм были глубоко чужды. В середине 19-го века Базаровы не долго поиграли в холодных позитивистом, но, в целом, русские интуитивно не приняли безбожия европейского Просвещения. То есть, с лёгкостью усваивая европейские культурные формы, бытовые и эстетические русский культурный класс в части содержания Европу принять в себя как «своё» не мог в силу конституциональных ментальных отличий. И в своих культурно-философских рефлексиях в 19-м веке пытался осмыслить именно, в чём для него эта европейскость не приемлема и почему. Одним из первых это сделал Ф.И. Тютчев, написавший в 1849 г. книгу «Россия и Запад». Позже Н.Я. Данилевский и Н.С. Трубецкой посвятили отдельные теоретические работы выявлению глубинных антагонизмов русскости и европейскости: «Россия и Европа» и «Европа и человечество».
Кстати, наши ментальные отличия, а именно они лежат в основе отличий этнокультурных, ещё в 17-м веке попытался описать Юрий Крижанич. Хорват, которого иезуиты готовили в римской коллегии св. Афанасия для католической миссионерской деятельности «на поражённом схизмой Востоке», приехав в Россию, он быстро обрусел, стал пламенным апологетом славянского единства и, не смотря на то, что русские власти на пятнадцать лет сослали его в не строгую ссылку в сибирский Томск, считал Россию своим новым Отечеством. Имея возможность сравнить два мира, вот, как он их характеризовал: «Мы косны разумом и просты сердцем: они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы, мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро своё зря разбрасываем: они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки… Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем, поссоримся и помиримся: они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, во веки не помирятся, а, помирившись, всегда будут искать случая к отместке».
Здесь заметим, что современные европейцы - романогерманцы с утратой пассионарности, уже и на такие человеческие страсти, как алчность и месть мало способны. Скупы, корыстны, мелочны, расчётливы, злопамятны – да. Но не алчны и не мстительны.
Записки Крижанича вошли в историографический оборот, благодаря интересу к его фигуре И.О. Ключевского. Но любопытно, что спустя три века, уже после длительного периода европеизации, ставший известным в России в последние годы И.А Ильин, проделавший замысловатый путь от гегельянца и западника к монархисту и почвеннику, оказавшись в эмиграции, отмечает в статье «Против России», в сущности, те же отличия, что и Крижанич, порой даже используя те же слова: «Европа не знает нас, в третьих, потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как <<глупости>>; русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское правосознание формально, чёрство и уравнительно; русское – бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри государства формальной <<свободы>> и формальной <<демократии>>. Русский человек всегда наслаждается естественною свободою своего пространства, вольностью безгосударственного быта и расселения и нестеснённостью своей внутренней индивидуализации; он всегда <<удивлялся>> другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свободы – и если бы другие народы и народцы его не тревожили, не мешали ему жить, то он не брался бы за оружие и не добивался бы власти над ними.
Из всего этого выросло глубокое различие между западной и восточно-русской культурой. У нас вся культура – иная, своя; и притом потому, что у нас иной, особый духовный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная храбрость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература, другая музыка, театр, живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое отношение к нашим героям, гениям и царям.
И притом, наша душа открыта для западной культуры: мы её видим, изучаем, знаем и, если есть чему, то учимся у неё; мы овладеваем их языками и ценим искусство их лучших художников; у нас есть дар вчувствования, перевоплощения.
У европейцев этого дара нет. Они понимают только то, что на них похоже, но и то искажая всё на свой лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно. Их мёртвое сердце – мёртво и для нас…»
Некоторые утверждения Ильина могут показаться спорными. К примеру, русская классическая музыка, театр, литература, очевидно, истоком имеют европейское искусство. Однако при более пристальном взгляде, становится понятно, что наше родство с Европой и здесь скорее внешнее, нежели глубинное, формальное, нежели содержательное. В последней части данной главы мы ещё скажем об этом несколько слов, а здесь вернёмся к теме религиозных различий.
Изрядно вспотевшего на крутых исторических поворотах минувшего века российского савраску не редко объявляют пристяжным к европейскому кореннику на том основании, что мы де имеем общий с европейцами христианский корень. Философски обосновать этот тезис одним из первых, как мы помним, пытался В.С. Соловьев - тонкий и глубокий мыслитель, заметно повлиявший на всех русских религиозных философов конца 19-го – первой половины 20-го веков. Что же, фактор веры в определении идентичности народа один из наиболее весомых. Ведь, именно в религиозных откровениях содержатся «ответы» на главные вопросы - о конечных смыслах бытия, следовательно, о самих смыслах человеческого существования. Эти «ответы» не всегда рационализируются, но они, как уже замечено в первой главе, глубинно отражаются в национальной культуре, в этосе, в коллективном народном бессознательном. У русских с этой глубины их не смог до конца вытравить даже восьмидесятилетний приказной атеизм. Причём, если для идентичности отдельной личности фактор веры важнейший в ряду прочих, то для идентификатуры народа, то есть коллективной личности он, пожалуй, перевесит все прочие вместе взятые. Во всяком случае, для русского народа это именно так. Не даром, как уже замечено выше, в России до 17-го года, определения «русский» и «православный» были синонимами.
Но именно важность религиозного фактора заставляет отрицать глубинное родство России и Европы. Во-первых, если бы упомянутого основания было достаточно для объявления России частью европейской цивилизации, тогда эфиопы, египетские копты, латиноамериканские индейцы - католики или ливанские и палестинские христиане – арабы, тоже должны были бы быть причислены к европейцам. Ведь, и они стремятся жить заветами Нагорной проповеди. Однако эфиопов никто европейцами назвать ещё не догадался. Очевидно потому, что религиозный фактор, определяя национальный культурно-психологический архетип, национальную и культурно-цивилизационную идентичность, выступает не сам по себе, но в неразделимой связке с факторами почвы, традиции, языка, исторической судьбы и, среди прочего, «крови».
Значение последнего – узко племенного фактора «крови» нынче стало модно принижать. Мы здесь также разделяем ту точку зрения, что духовный уровень идентификации – вера важнее физического. Однако значение «крови», как уже замечено выше, умаляется не справедливо. Ведь именно генотип в значительной мере определяет мирочувствование. Если бы, повторюсь, мирочувствование - тоны и лады души наших предков – древних русичей, этнически принадлежащих восточному славянству, не было бы созвучно и отзывчиво к «греческой вере» - православному христианству, то таковое, едва ли смогло бы укорениться в древнерусском мире и быть завещанным потомкам. Прагматические соображения при принятии православия, безусловно, были, но они не исчерпывали мотивов наших предков. Ведь в пору становления и укрепления на Руси православия теряющая пассионарность Византийская империя, откуда оно было воспринято, уже начинала сдавать позиции, тогда как более пассионарные католический романо-германский и мир и исламский арабо-ирано-тюркский мир, напротив, набирали силу. Не случайно ряд славянских племён - чехи, словаки, часть сербов, получивших этноним хорваты, в итоге отказались от православия в пользу католицизма. Но не русские.
Во-вторых, в этом вопросе существенно самоощущение. Но европейцы русских и других православных своими никогда не ощущали и не считали. Уже в 983 г. ещё до разделения церквей при германском императоре Оттоне 11 на имперском сейме в Вероне было принято решение о войне, и именно цивилизационной, религиозной войне против «греков и сарацин». Мало того, что православных Европа уравняла с сарацинами - мусульманами, но даже в списке врагов поставила первыми. В 13-м веке стало понятно, что русские не торопятся внимать увещеваниям назойливо «чадолюбивых» римских первосвященников и записываться к ним в послушные сыновья. Крестовый поход ордена Меченосцев на Русь, благословлённый папой Иннокентием 111 с целью вразумления непокорных «схизматиков», потерпел крах. В отместку в Европе была измышлена «теория», что русичи, суть не европейцы, а азиаты, те же монголы, жестокая и бескультурная нация, угрожающая европейской цивилизации. Уже тогда за русскими в Европе не признавали религиозного родства. Не случайно Богдан Хмельницкий, в своей речи на знаменитой Переяславской Раде с горечью сказал о поляках - католиках, в государстве которых православным малороссам пришлось жить в результате Люблинской унии Польши и Литвы 1569 г., что они «… Лучше жида и пса, нежели христианина, брата нашего (то есть православного русского – И.М.) почитали».
Неприязнь и даже ненависть к нам европейцев не смягчилась и спустя века, когда, казалось бы, по своей этногенетической старости они стали бесстрастны и равнодушны ко всему, что выходит за пределы их каждодневной житейской суеты. Эта неизбывная неприязнь сквозит и в их прессе, и в их трактовках истории, и в их кино, и в ежедневных теленовостях, и в резолюциях ПАСЕ, и даже в пристрастии болельщиков и судей во время спортивных состязаний. Достаточно привести данные авторитетной социологической компания Globescan, согласно её опросам в 2006 влияние России в мире негативно оценивали 62% французов, 50% англичан, 45 % немцев. Конечно, негативную оценку влияния страны нельзя прямо трактовать, как негативное отношение к русским, но цифры показательные.
Понятно, что отношение к русским и России в Европе и на Западе, в целом, различное и в отдельных слоях политикума и истеблишмента, и в разных странах, и у разных групп интеллектуалов, но нельзя отрицать и существования общеевропейского и общезападного мейнстрима, и этот мейнстрим – это именно русофобия. Вековой устойчивый параноидальный психоз по отношению к России никуда не исчез, только теперь он проявляется не форме страха перед русским царём, русскими казаками или русскими «мужиками», а в форме иррационального глубинного непрятия доходящего не редко до ненависти русской особенности, инаковости, как таковой. А пределы благожелательности Запада крайне узкие, потому что они прочерчены там, где начинаются интересы самого Запада, и где интересы России могут войти даже чисто гипотетически в противоречие с интересами Запада. А поскольку интересы Запада пролегают повсюду, то для нашего русского самоутверждения пространства почти не остаётся. В частности Запад страшно боится, что Россия вновь, как это было в эпоху СССР, мобилизует против Запада хотя бы часть развивающегося мира, откуда Запад выкачивает ресурсы.
Если бы однажды, проснувшись, Европа обнаружила, что на её пороге разверзлась пропасть и в ней исчезла Россия, можно представить с каким облегчение и злорадством, и с каким торжеством она бы вздохнула. Поди, при всей своей скупости и скаредности не поскупилась бы на праздничный фуршет.
Так, ведь, и русские до Петра скептически были настроены к христианскому имени латынников, тем более, лютеран и прочих протестантов. И если утончённое сознание дворянских интеллектуалов в 19-м веке нуждалось выразить глубинную антиномию Россия–Европа в рафинированных категориях философского дискурса, то простой русский человек чувствовал её непосредственно. Когда бы хлебопашцу, бороздившему дедовской сохой Среднерусскую возвышенность, поморскому рыбаку или кубанскому казаку ещё в начале 20-го века некто «просвещенный» сообщил бы, что они, оказывается «европейцы», его попросту не поняли бы. Решили бы, что «барин» чудит.
Более того, христианская вера и христианская церковь, на первый взгляд призванные нас соединить в единую христианскую цивилизацию, в реальной истории на протяжении веков нас именно разъединяли. И дело, конечно, не только в догматических разночтениях, важнейшим из которых является вопрос об эманации Святого духа – филиокве (лат. filioque - и от сына) Православные, как известно, считают, согласно Символу веры, утвержденному первым - Никейским и вторым - Константинопольским Вселенскими соборами (соответственно 325 и 381), что Святой Дух исходит только от Бога-Отца. На Западе же ещё в 589 г. на поместном Толедском соборе в Никео-Цареградский Символ веры было введено положение о том, что Святой дух исходит также от Бога-Сына. Эту инвективу в 1014 официально закрепил в качестве догмата папа Бенедикт VIII. Отказ Вселенского Константинопольского патриарха признать данное новшество, наряду с менее важными разночтениями в догматике и обрядности, послужил официальным поводом для анафемы папы Льва IX в адрес Вселенского патриарха Керулария в 1054 г., за которой последовало официальное отделение Рима от единой прежде христианской церкви, и появление особой конфессии - католицизма.
И это стремление Романо-германского мира к религиозному обособлению не случайно. Современная романо-германская культура, сложившаяся, согласно теории Гумилёва, после пассионарного толчка 8-го века по Р.Х., восприняла христианство по инерции от своих древнегерманских предков. Древние же германцы принимали христианство не столько по зову сердца, сколько в пику ненавистному им Риму - в форме арианства, по примеру вестготов, которых крестил арианский епископ Ульфил. Они не вдавались в существо теологических споров и самой христианской философемы, для них было важно, что в Риме арианство считалось ересью, что делало его удобным знаменем для борьбы с загнивающей империей. Потому и священное писание не было нужды переводить на национальные языки, и литургия велась на не понятной людям мёртвой латыни.
Уровень культуры, вообще, был крайне низким, грамотность почти отсутствовала. Ни сам Карл Великий, ни весь его двор не умели ни читать, ни писать. Древнегерманское духовенство походило больше на светских владык. Пастырей в Раннее Средневековье скорее можно было застать на охоте или на шумной пирушке, чем в храме на литургии. Когда же в начале 11 века пришла пора сознательного самоопределения, Европа испытала серьёзные потрясения. Клюнийская реформа, накалившая здесь атмосферу до предела и расколовшая само священничество по целому ряду вопросов, была самым крупным, но отнюдь не единственным эпизодом, сложного процесса «притирания» романо-германского мира к христианству. Успех клюнийских реформаторов укрепил позиции церкви и духовенства, но при этом был отринут важнейший православно-христианский принцип – право свидетельства истины отнималось у общины и передавалось клиру и даже лично папе. По сути, оно отнималось у совести и отдавалось холодному рассудку и схоластическому знанию. Само имя западной церкви – кафолическая, то есть соборная было поставлено этим под сомнение, её соборность превратилась в пустую вербальную форму, лишённую всякого содержания.
Даже в12-ом-14-ом веках, в период расцвета христианства в Европе её христианское призвание вызывает сомнения. Был ли подлинно христианским мир, идеалы которого рыцари, с закованным в холодное железо сердцем, несли на острие меча? В захваченном в 1242 г. Пскове они не щадили даже беременных женщин и оскверняли православные храмы. В 1204 г. они уничтожили первое крупное христианское государство в человеческой истории – Ромейскую империю или, иначе, Византию. Притом совершенно неспровоцированно. Константинополь ждал от крестоносцев помощи в борьбе сарацинами, а те расправились с самим ромейским государством. Между тем, именно Византия крестила германскую Европу. Отнюдь не Рим.
Сам Вечный город во второй половине 1-го тысячелетия по Р.Х., когда германцы массово принимали христианство, после погрома Алариха, а затем вандалов превратился в захолустный городишко, память о его былом величии хранили разве что развалины Колизея, среди которых мирно паслись козы. Вся Западная Римская империя также уже с конца 4-го века находится на последнем издыхании, а в 476 г. после переворота Одоакра и формально прекратила свое существование. К тому же в западной церкви в ту пору попросту не было достаточного количества пассионариев, тогда как миссионерское служение, подвиг проповедничества веры - удел именно пассионариев, и приходили они из Восточной Римской империи - Византии, которая в середине 6-го века присоединила Италию, находившуюся до этого в составе государства остготов.
И, ведь, собственную крёстную мать европейцы умертвили не по недомыслию. Мотив был самым, что ни на есть постыдным с точки зрения христианской морали – в целях банального ограбления. Видно, прагматизм и экономизм уже тогда был свойственен европейцам. Обобрали до нитки, даже иконостасы выносили из храмов, сдирали дорогие оклады с икон и срезали украшения на ризах. Конечно, нельзя отрицать, что Европа несла миру свои идеалы не только на острие меча злобных и алчных рыцарей, но и на кончике посоха святого Франциска Ассизского. Однако сколь скоро стёрлась память в Азии о благих деяниях последнего, столь же устойчива она на том же Ближнем Востоке и в славянских странах о злодеяниях первых.
Рожденный в христианском звании лишь волею случая романо-германский Запад вполне закономерно всю свою энергию и весь свой недюжинный рассудочный интеллект в протяжении веков направлял на то, чтобы сбросить, как ему казалось, тяжёлые оковы христианской морали и, главное, христианской совести, и обрести в открытом в 14-м веке гуманизме личную свободу. Не духовную и нравственную, которую душа, уверовавшая в Христа, обретает как дар Святого Духа, но политическую и бытовую, которую, по убеждению романо-германского Запада, заповедовала ему языческая Античность.
Как только созревание этнородового мозга впервые предоставило в распоряжение европейского интеллектуала хотя бы ещё ювенальное рацио, оно немедленно было использовано в целях умаления гносеологической ценности веры и онтологической ценности самого Творца. Схоластика отражала именно эту коллизию. У многих её авторов видим не столько поиски христианского Бога, сколько поиски легитимных путей избавиться от тяготевшего европейским умам Высшего Авторитета. Символично, что ещё до схоластов этим был увлечен первый европейский философ и по совместительству монах Эригена. Совершались, конечно, усилия и в противоположном направлении, но инициативная сторона всегда была другая. И уже в преддверии Ренессанса в Европе в интеллектуальной среде восторжествовали пантеизм, а чуть позже и безрелигиозный светский гуманизм.
Так что вовсе не случайно, что уже в 15-м веке, задолго до ядовитых просвещённых насмешников Вольтера и Дидро профессора Платоновской академии не воспринимают всерьёз христианские догматы и смотрят на христианских богословов с интеллектуальным высокомерием. Их богом становится сам человек, и все иные боги ему лишь не нужные конкуренты. В картезианском прогрессизме места христианству уже нет вовсе, христианская любовь и христианская совесть здесь лишние. Начинается исход европейцев теперь уже и из собственно западной католической церкви, известный под именем Реформация, а с этим и подспудный отказ от соборного христианства. В эпоху Просвещения этот исход становится очевидным, открытым и философски отрефлексированным.
Однако, европейские интеллектуалы, покидали тесное и затхлое, как им казалось, духовное пространство христианства не с пустыми руками, не на легке. Они сочли полезным прихватить с собой нечто, что должно было составить их надёжный и не сгораемый моральный капитал. Речь о том, что отнюдь не возрожденческий гуманизм и, тем более, не Просвещение открыли человеческую личность как самоценность, но именно христианство две тысячи лет назад. Более того, именно самоценность человеческой личности есть альфа и омега христианства. Христианство объявляет человека образом и подобием Бога, способным в таинстве причастия стать сопричастным - соединяться с Творцом и Спасителем. И наделяет его свободной волей. Идея самоценности человека утверждается посредством фигуры Христа – Сына Божия и человека одновременно. То есть в фигуре Христа преодолевается разрыв между трансцендентным и профанным.
Секулярный же гуманизм вместе с прижитыми им в грехе апостасии отпрысками – западного типа всевдодемократией и либерализмом – всего лишь хамоватые тати, укравшие под покровом ночи Реформации и Просвещения идею самоценной личности у апостольского и соборного христианства. Подобно тому, как коммунизм опошлил христианскую идею братства, солидарности, социальной ответственности и покровительства сирым и убогим, так либерализм и западная буржуазная демократия извратили и опошлили идею свободной личности. Как всякий вор они враждебны тому, кого обокрали, и как всякий вор они так и не смогли оценить подлинную ценность краденого - торгуют им в каждой подворотне, подобно карманнику, стащившему дорогие часы.
Разница же христианской и гуманистической антропософии в том, что гуманизм считает высшей ценностью человека «естественного» - вместе со всем тленным и греховным, что в нём заключено, а христианство ценит именно божественное начало в человеке, его богоподобную и боговдохновенную душу. Здесь кстати разоблачение очередного лицемерия Европы с запретом смертной казни. Один из аргументов лжегуманистов - де христианская этика не позволяет отнимать у человека жизнь, мол, Бог дал, Он один волен и забрать. Однако ничего даже близкого похожего в христианской этике, тем более, в христианской практике нет. Ценя в человеке именно душу, христианство, допускало казни преступников и грешников, полагая освобождение от греховной плоти последним средством спасения души грешника для вечной жизни.
Первые гуманисты, опровергая таких скептиков, как Макиавелли, Гоббс, Спиноза, полагавших человеческую природу изначально злой и порочной, исходили из того, что эта «природа», если не добродетельна изначально, то, по крайне мере, влекома к добродетели, и вполне способна достигать совершенства, опираясь только на свои внутренние силы. Их последователи в эпоху Просвещения указали и на основной фактор, который мешает человеку в его влечении к добродетели – несовершенные общественные отношения, лишающие человека свободы. Достаточно де ему эту социальную свободу предоставить – и совершенный человек перед вами. Христианство же, вовсе не полагая природу человеческую изначально злой и порочной, ведь, человек есть образ и подобие Творца, считает, что он при этом отнюдь не совершенен, как не совершенно всё в подлунном мире. Совершенство – атрибут надмирного, и совершенен только сам Творец. А человек суть лишь подобие Его. Но Создатель компенсирует несовершенство человека, наделяя его совестью и способностью веры, и жертвуя своим единородным Сыном, который становится для рода человеческого Спасителем. Уверовав в спасительный смысл Жертвы на кресте, человек может стремиться к добродетели, а в своих высших проявлениях и к Совершенству. Но может и не стремиться. Поскольку, хоть человек и создан по образу Бога, но раскрыть в себе и через себя этот образ или затушевать его, это задача уже духа самого человека и выбор его свободной совести.
Смена христианской антропософии на гуманистическую происходила в Европе постепенно, в протяжении веков. Соответственно, велись поиски новой этики. Учитывая, что России нынче навязывается либеральная этика, в основе которой лежат наработки европейцев в ходе целеустремлённого разрушения ими христианского фундамента своей собственной культуры, здесь сделаем небольшое отступление и скажем об этом дополнительно несколько слов.
Решительная попытка не просто ревизии, но именно отрицания христианской антропософии и, как следствие, этики была предпринята в Европе ещё в период Возрождения, как уже замечено, гуманистами Платоновской академии. Об отрицании морали как таковой речь не шла, но впервые моральные требования обосновываются исключительно посюсторонними причинами. В частности развивается нерелигиозная эвдемоническая этика, в которой моральное поведение рассматривается как путь к достижению индивидом земного счастья. А счастье при этом видится в удовлетворении земных желаний. Необходимым следствием подобных представлений является отрицание Бога как высшей санкции, источника нравственного поведения, отказ от каких бы то ни было религозно-эсхатологических мотиваций, вообще. То есть десакрализация равно человеческой природы и морали.
С началом Нового времени появившиеся в ту пору в Европе рационалисты придумали и, чем именно можно заменить Бога – человеческим разумом. Не Бог и не вера в Бога определяют нравственное содержание мира, но познающий человеческий разум, настаивал, в частности, отец европейского рационализма Р.Декарт. Вслед за Декартом идею разумности морали во второй половине 17-говека развивает П. Бейль. Он доказывает, что вера никак не препятствует творить человеку зло и атеист, руководствующийся разумом, может быть более моральным, чем верующий, руководствующий религиозной догмой. Спиноза также считает источником морального поведения познающий разум, а моральное поведение результатом познания. Следовательно, получить морального человека возможно путём его просвещения. Т. Гоббс присоединяется к упомянутым умам, но, в отличие от Декарта, подчеркивает общественную природу человека и акцентирует роль разума как организующей общественную жизнь силы. Здесь Гоббс предвосхитил деятелей Просвещения.
Однако практика не спешит подтверждать правоту европейских интеллектуалов. Оказывается, рационализм с необходимостью утверждает приоритет не морали, но силы, прикрывающей различными надуманными обстоятельствами или формальным законом своё коварство, подлость и корысть. Не случайно Европа захлёбывается в крови бесконечных междоусобных и гражданских войн. При этом аристократия, да и богатеющая буржуазия всё более явно демонстрируют нравственную распущенность. Становится ясно, что этический рационализм с его упованием на разум, как источник морали терпит фиаско. Пропасть между идеальным и реальным, должным и сущим продолжает расти. В этих условиях новая буржуазная надындивидуальная мораль становится всё более абстрактной. Связь между нею и практикой жизни становится условной, она все более отчетливо приобретает характер лицемерия и ханжества.
И тогда европейцы изобретают новый метод борьбы с христианским пониманием человека и должного ему - попросту лишить мораль силы надындивидуального императива, который довлеет человеческой совести, перестать мерить человека меркой идеального, перестать требовать от него отказа от своих эгоистических устремлений и чувственных вожделений. Вместо этого решено, напротив, моральные принципы выводить из эмпирии реального бытия, из сложившихся отношений, из наклонностей «живого человека». То есть должное выводится из сущего. В этой связи наклонностям и потребностям индивида европейские умы пытаются придать статус природных и естественных, статус натуры, тем самым как бы выдают человеческим вожделениям и порокам индульгенцию на все времена.
Одним из первых с натуралистическими идеями в антропософии и этике выступил в 17-м веке Ф. Бэкон, сформулировавший концепцию “естественной морали”. Широкое же хождение эти идеи имели в эпоху Просвещения. Этика просвещенцев получила наименование сенсуалистической или, иначе, этики сенсуалистического индивидуализма. Подобно Бэкону, Декарту и Спинозе сенсуалисты полагают нравственным то, что разумно, а разумным то, что нравственно. Эгоизм и всё зло, которое обнаруживается в человеке, и которое христианство приписывает неумению индивида, наделенного Богом свободной волей, правильно ею распорядиться, сенсуалисты связывают опять же с социальным неравенством. Сама мораль полагается лишь формой общественных отношений, а воспроизводство морального индивида связывается с организацией общества на правильных принципах, а именно принципах “естественной морали”.
При этом просвещенцы-сенсуалисты требуют освободить человека от морали «неестественной», каковой признается религиозная христианская мораль, с ее внеэмпирическими надындивидуальными идеальными нормами, с ее требованиями ограничения “естества”. Религиозные моральные нормы, утверждают просвещенцы, пренебрегают живым, реальным человеком, исходят из надуманных и зловредных представлений церковников о должном. И потому существующую христианскую мораль и основанное на ней право необходимо отринуть. Ничего не должно мешать человеку достигать счастья в земной жизни.
Основателем сенсуализма выступил английский мыслитель конца 17-го века Д. Локк, кстати, один из отцов доктрины «гражданского общества», но наиболее ярких апологетов эта концепция приобрела в 18-м веке во Франции в лице Дидро, Руссо и Гельвеция. Последний, к примеру, считает основой морали личный интерес, оправдывает себялюбие и объявляет целью человеческого существования чувственные наслаждения. Гельвеций предложил и способ «преодоления» человеческого эгоизма. Если уж себялюбие и «свой интерес» движут человеком, то всё, что нужно для всеобщего благоденствия, это, чтобы личный интерес совпадал с общественным. У просвещенцев это называется “правильно понятым личным интересом”.
Однако сколь бы привлекательным для сытого и почувствовавшего вкус к сибаритству европейского буржуа не был сенсуализм, всё же моральное сознание европейцев на века вперёд завоёвывает не он, но нечто иное, хотя и очень близкое по духу и по смыслу. Это иное – утилитаризм, о котором мы поминали в начальной главе этой книги.
Принцип утилитарной этики прост: морально то, что выгодно и полезно, а полезное автоматически считается моральным. Источником морали признается - стремление не столько к узко чувственному удовольствию, как у Гельвеция, но именно к пользе и выгоде в широком смысле. В результате этический утилитаризм санкционирует материалистические устремления и социальный эгоизм, столь характерные для Европы начиная с Нового времени. Эгоистический интерес возводится в ранг нормы. Общественные отношения людей полагаются отношениями взаимной выгоды. Само уважение со стороны отдельного человека к другим людям, а равно уважение и признание национальных, государственных, общественных идеалов и интересов объявляется необходимым именно потому, что оно выгодно индивиду. Эта доктрина, ключевые принципы которой также были заложены ещё европейскими умами 17-го века, получила название “разумного эгоизма”. Она-то и была положена в основу концепции «гражданского общества» западного типа, навязываемой ныне России, как некое высшее достижение исторического развития.
В основании самого разумного эгоизма всё тот же вульгарный рационализм. Не случайно одним из первых говорить о пользе и выгоде нравственного поведения, которое для него тождественно разумному поведению, стал опять же Декарт. Любопытно как он обосновывал моральную ценность, к примеру, любви - у влюбленного указывал Декарт, пищеварение осуществляется много быстрее, чем у обычного человека, что укрепляет его здоровье. Поэтому следует признать любовь не противоречащей морали страстью.
Спиноза также взвешивает на аптекарских весах разумности и целесообразности удовольствия и неудовольствия, и соглашается с расхожим теперь представлением, что человеком движет стремление к собственной пользе. Гоббс не просто отмечает ориентацию человека на власть и пользу, но утверждает эгоизм в качестве непререкаемой нормы. Главный закон, который движет людьми это закон самосохранения, отсюда стремление к пользе и власти. Гоббс же одним из первых избавляется от всяких внерациональных иллюзий и в отношении происхождения морали. Мораль, согласно Гоббсу, есть лишь целесообразное соглашение между людьми. Именно ненависть и страх эгоистических индивидов друг перед другом вызывает к жизни общественный договор в «гражданском обществе», обеспечивающий равновесие интересов. На этом базируется человеческая цивилизация. Самого человека Гоббс рассматривает как товар и вычисляет его стоимость: “Стоимость, или ценность, человека подобно всем другим вещам есть его цена, т. е. она составляет столько, сколько можно дать за пользование его силой...”
К Спинозе и Гоббсу присоединяется Локк, он согласен, что моральные нормы являются необходимыми в силу своей полезности, а добро и зло сводит к удовольствию и страданию. Этический утилитаризм утверждается и в трудах британских мыслителей - Дэвида Юма, позже Дэвида Риккардо и упомянутого в предыдущей главе Иеремии Бентама. Вслед за Декартом, Гоббсом и Локком они принимают полезность критерием нравственности. Причем, у Юма речь идет не столько о пользе духовной и душевной, как у моралистов Возрождения или Декарта, сколько о банальной бытовой пользе. Бентам так же занят "моральной арифметикой", исчисляя баланс удовольствий и страданий.
Кстати, европейцы в эпоху Просвещения демонстрируют утилитарный прагматизм и в отношении религии. Гассенди, а позже Ламетри, соглашаются с необходимостью сохранить религию, так как она полезна для нравственного воспитания низов. Вольтер уже может позволить себе свою знаменитую циничную сентенцию, достойную самонадеянного интеллигентского хама: "Если бы Бога не было, его следовало бы придумать". Не менее самоуверенно высказался Дидро: "Религия и законы - пара костылей, которую не следует отнимать у людей слабых на ноги". А ведь это были кумиры
«прогрессивной европейской общественности». Стоит ли после этого удивляться современной апостасии Запада, тому, что современные Европейцы стесняются своих христианских корней, открещиваются от самого христианского имени.
Европейские интеллектуалы уже в 18-м веке соревнуются, кто остроумнее сострит по поводу религии и церкви. Но позднее обставили всех американцы с их духовной, мягко скажем, незамысловатостью. Американцы сделали открытие: церковь выгодно торгует религией. И это действительно если не всё, то, во всяком случае, первое, что способен узреть американский обыватель, осмотревшись в храме. Здесь появляется представление: «бизнес есть религия, а религия есть бизнес». Иисус Назаретянин объявляется «величайшим бизнесменом всех времен», его удостаивают почётного звания "Великого рекламного агента". Многие энергичные субъекты желают, если не побить Его «рекорды», то хотя бы воспользоваться, как им кажется, Его методом - множатся квазирелигиозные секты, основатели которых напоминают магнатов - хозяев коммерческих предприятий, «священноначалие» – топменеджмент, а «пастыри» - профессиональных шоуменов. Нынче этот тип «пастырей» мы можем во множестве видеть и в России. По манере говорить нарочито энергично, но с некоторой монотонной механичностью и едва уловимой отстранённостью, их «проповедь» напоминает рекламные ролики телемагазина – если не вслушиваться в смысл слов, можно решить, что они рекламируют щипцы для завивки волос.
В 19-м – в первой половине 20-го века антихристианская революция в Западном мире была логичным и закономерным продолжением Реформации и Просвещения. Когда Маркс и Энгельс писали в 1948 г. в своём знаменитом коммунистическом Манифесте: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», они лукавили. Не коммунизма это был призрак, но апостасии. Не пролетарий наступал в этой революции, но в том то и дело что наступал еврейский ассимилированный банкир и еврейский издатель. В своём обозе они уже везли кожаные тужурки и заряженные револьверы для будущих чекистов, физически истребивших триста тысяч русских православных священников в ходе так называемой пролетарской революции. Коммунизм был лишь превращённой формой апостасии, её аватаром, маской, одной из многих, ведь апостасия эти маски меняет легко и непринуждённо в зависимости от момента, от конъюнктуры.
Либерализм и лжедемократия такие же её маски, как и коммунизм. Во второй половине 20-го века эта коллекция масок пополнилась новым экземпляром – в начале таковой поименовали мондиализмом, а позднее - глобализмом. Апостасия, которая суть мир без христианского Бога – то есть без любви, без правды, без гармонии, без вечной души, без совести, стремится придать своему торжеству видимость объективности, неотвратимости. В19-м веке она заставила половину человечества поверить в неотвратимость коммунизма и под сурдинку уничтожила крупнейшую христианско-православную - русскую империю. Теперь под знаменем глобализма будет подавлять оставшиеся атрибуты индивидуальности и неповторимости народов мира, их этнокультурную самобытность и политическую независимость, крушить границы и ломать традиции.
Только вот остаётся большой загадкой, почему из глобальных интеграционных процессов вытекает обязательность для всего мира поедать попкорн из модифицированной кукурузы, просматривая очередной американский сиквел, запивать химикатной колой гамбургеры в Макдоналдсах, радостно приветствовать парады педерастов под окнами школ и держать казённую заначку в американских долларах, поддерживая американскую финансы. Причём здесь технический прогресс и расцвет информационных технологий?
Когда Кант, произведший на рубеже 18-го-19-го веков ревизию этических поисков античных и европейских мыслителей, утверждал, что “мораль отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе”, он вряд ли мог предположить, что этот «чистый практический разум» Запада развяжет две невиданных по жестокости Мировые войны, исторгнет из общеевропейской конституции Евросоюза само упоминание имени Христа, легализует парафилию, однополые «браки» и прочие виды девиантного поведения, и будет доживать свой век в отстранённой сытости, духовной опустошённости и откровенном политическом фарисействе, которое назовёт демократией.
Едва ли можно согласиться и с кантовским утверждением, что мораль европейца, благодаря его практическому разуму довлеет сама себе - разумного эгоизма оказалось далеко не достаточно для удержания европейца в достойном человеческого звания моральном состоянии. Европе и Западу в целом, пришлось подкреплять этот самый разумный эгоизм хорошо разработанным формальным правом, созданием и шлифовкой правовых институтов – суда и полиции. Там, где репрессивная машина по наведению порядка не успевала за «разумным эгоизмом», возникал «дикий запад» - без какого-либо понятия о нравственности, морали и чести. Прав был тот, кто быстрее доставал из-за пояса свой кольт.
Европейский практичный и холодный рассудок, впрочем, вполне успешно справился с задачей юридической регламентации индивидуальных прав и свобод в ходе никогда не прекращающейся конкурентной борьбы индивидуальных эгоизмов. Благо под рукой имелось Римское право, которое Романо-германский Запад позаимствовал, правда, не непосредственно у Рима, а у Византии, где оно ещё в 6-м веке оформилось в кодекс Юстиниана. Не случайно судебно-правовая традиция у Запада богата, как мало где. Кичиться, однако, тут нечем. Ведь это лишнее подтверждение того обстоятельства, что оставаться человеком моральным без осознания реальной угрозы оказаться на виселице, под ножом гильотины или на электрическом стуле европейцу минувших веков было затруднительно. И здесь ещё одно глубинное отличие европейцев от русских.
Русским часто пеняют по поводу слабого развития правосознания, пассивности в создании правовых институций и правовых форм. И это вполне справедливо. Однако, повторюсь, важно понимать источники русского так называемого «правового нигилизма». Русское общежитие, как мы уже заметили выше, никогда не устраивалось на формально-правовых юридических началах. Это никак не соответствует народным представлениям об идеальном мироустройстве - не может жизнь в искомом русской душой Граде Китеже основываться на хладном и беспристрастном законе, измышленном человеческим рассудком – но лишь на Божьей правде.
Отношения и поведение людей в реальном русском мире также веками регулировались не столько сводами законов и распоряжениями местных властей, сколько традицией и обычаем – неписанными правилами, отражавшими жизненный опыт поколений народа, ключевые архетипы его коллективного сознания и его коллективного подсознательного. Этому больше соответствует прецедентное право. Формальное же право в русском мире не считалось большой ценностью, создание правовых форм и совершенствование правовых институтов никогда не являлось первостепенной заботой.
Правда, ощущаемая внутренним нравственным чувством, совестью выше юридического права и выше закона. Божий суд выше человеческого суда. Притом Божий суд, который диктует свои приговоры русскому сердцу, как правило, оказывается более мягким и более снисходительным, чем суд человеческий. Милосердие, в основе которого заповеданная Спасителем любовь к ближнему оказывается важнее отмщения и важнее справедливости.
Для русского жизнечувствия, как уже замечено выше, личная и гражданская добродетель является не предписанием формальной нормы, но внутренней душевной потребностью. Она идёт не от страха наказания, но от совести - не делаю так не потому, что боюсь наказания, а потому что совесть не позволяет. Данное обстоятельство, кстати, ярко проявилось в эпоху воровской приватизации 90-х. Достаточно беглого взгляда на список российских миллиардеров «Форбс», чтобы увидеть, что русских среди них почти нет. И это не случайно. Когда Чубайс в середине 90-х пригласил всех желающих грабить общенациональное достояние - нефтяные скважины, газовые месторождения, золотые и алмазные рудники, русские на этот пир мародёров не пришли. Потому что в их головах не укладывалось, что такое, вообще, может происходить.
Русское православие, Русская идея, русская этическая традиция ориентированы не на окультуривание человеческого эгоизма, не на приспособление такового на службу общественной пользе, и не на привидение человека к моральной дисциплине с помощью репрессивной машины, подавляющей эгоистические человеческие инстинкты, но на воспитание чувства стыда, чувства милосердия и внутренней установки на доброделание. Формальный же закон в русской традиции и в русской душе занимает, по выражению И.Л. Солоневича, то место, которое ему и надлежит занимать: место правил уличного движения. Когда же закон входит в противоречие с человечностью - русское сознание отказывает ему в повиновении. Так что русский правовой нигилизм, повторюсь – это не корректное выражение. Нигилизм – голое отрицание всего и вся, отрицание значимости нравственных и культурных ценностей, как таковых, непризнание любых авторитетов, включая Бога. Русский же скептицизм в отношении формального закона, как уже замечено выше, является обратной стороной убеждённости в верховенстве и приоритетности нравственного чувства идущего из глубин души, от веры в высший суд и высшую правду.
Отметим так же принципиальное различие в ответах, которые европейское и русское моральное сознание давали на увеличение разрыва между должным и сущим. Русские искали причину в себе, в слабостях собственного духа и несовершенствах собственной натуры. Когда буйная русская натура не могла устоять перед соблазном греха, она впадала в болезненную рефлексию и не уставала усердно каяться. Европейцы же со своим родовым пятном вульгарного прагматизма предпочли, как уже замечено, пересмотреть саму христианскую доктрину должного. И в итоге практически утратили христианскую составляющую своей культурно-цивилизационной идентичности.
|


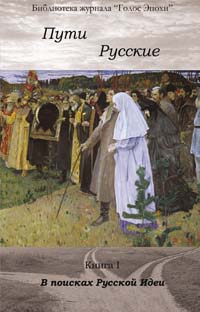 Многие русские умы отмечали ту особенность западноевропейской религиозности, что в отличие от русского православия, которое уповает на глубокую искреннюю веру - от сердца, рождающую в человеческой душе живую христианскую любовь и христианскую совесть, католицизм, подобно ветхозаветному и талмудическому иудаизму, требует внешнего благочестия, покорности священноначалию и жёсткого соблюдения предписаний. Очевидно, именно это и стало предпосылкой того обстоятельства, что Европейская цивилизация с началом Просвещения постепенно, но последовательно отвергает христианскую духовность, христианскую моральность и христианские основы общежития, на которых она возникла в конце 1-го тысячелетия по Р.Х., возросла в эпоху Зрелого Средневековья и Возрождения и достигла расцвета в Новое Время.
Многие русские умы отмечали ту особенность западноевропейской религиозности, что в отличие от русского православия, которое уповает на глубокую искреннюю веру - от сердца, рождающую в человеческой душе живую христианскую любовь и христианскую совесть, католицизм, подобно ветхозаветному и талмудическому иудаизму, требует внешнего благочестия, покорности священноначалию и жёсткого соблюдения предписаний. Очевидно, именно это и стало предпосылкой того обстоятельства, что Европейская цивилизация с началом Просвещения постепенно, но последовательно отвергает христианскую духовность, христианскую моральность и христианские основы общежития, на которых она возникла в конце 1-го тысячелетия по Р.Х., возросла в эпоху Зрелого Средневековья и Возрождения и достигла расцвета в Новое Время.