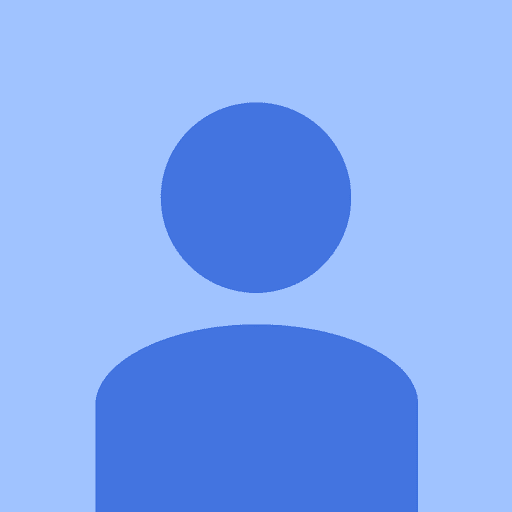«Иногда, оставляя книгу, смотрел он на синее пространство Волги, на белые паруса судов и лодок, на станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе. Сия картина так сильно впечаталась в его юной душе, что он через двадцать лет после того, в кипении страстей, в пламенной деятельности сердца, не мог без особливого радостного движения видеть большой реки, плывущих судов, летающих рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись его воображению, трогали душу, извлекали слёзы».[1]
Малая Родина – во всякой душе оставляет она свой неизгладимый след. Детство и отрочество Н.М. Карамзина прошло в Симбирской губернии в родительском имении. Таким образом, мальчик возрастал на совершенно русской почве, «в тишине сельской», где дух его воспитывался «в простоте естественной».
На детские лета Карамзина пришлись пугачёвское восстание и поразивший низовых жителей страшный голод, о котором позднее он писал в своё очерке «Фрол Силин, благодетельный человек». Глубоко врезались в детскую память горе и отчаяние людей, вынужденных целыми семьями уходить бродяжить и просить подаяния по окрестным дорогам, а вместе с тем – имя русского крепостного крестьянина Фрола Силина, который, будучи зажиточен сам, в лихую годину раздал односельчанам все свои запасы хлеба.
Ещё одним детским потрясением стало чудесное избавление от неминуемой гибели, удар, который по свидетельству Николая Михайловича, стал основанием его Религии. Однажды в лесу во время грозы на него бросился выбежавший из чащи медведь. Мальчик в ужасе зажмурился, призывая Господа, а, когда открыл глаза, увидел зверя бездыханным – молния сразила его, не попустив несчастья.
С ранних лет Карамзин обнаружил недюжинный ум и великолепную память. Он перечёл всю библиотеку покойной матери, обучился азам некоторых наук у соседки-помещицы, принявшей участие в судьбе сироты, а после был отправлен отцом в Москву, в пансион знаменитого в ту пору профессора Шадена. Четыре года этого пансиона, представлявшего из себя нескольких отроков, живших в доме профессора и обучаемых им различным дисциплинам, стали фактически единственным образованием будущего историографа. Николай Михайлович весьма желал продолжить его в университете или заграницей, но не нашёл поддержки отца, полагавшего, что сыну пора служить.
Недостаток обучения Карамзин с избытком компенсировал самообразованием. Его замечательный ум и равное трудолюбие давали ему неизмеримо больше, чем другим сотни мудрых лекций, иностранные университеты и лучшие педагоги. Позже историк Погодин, пытаясь объяснить феномен, что человек, не имевший образования и дотоле подвизавшийся на ином поприще, сумел поднять такой великий труд, как История государства Российского, указывал на «особенное свойство в уме Карамзина»: «…он обнимал всякий предмет с удивительною лёгкостью, удерживал его в своём воображении, имел его всегда как будто пред своими вторыми глазами в совершенном порядке; другими словами, он как будто обладал каким-то внутренним дагерротипом. Ему не нужно было обращаться по нескольку раз к одному и тому же предмету. Раз что-либо прочитав, он присваивал себе навсегда прочитанное: оно отпечатывалось в его сознании. Всякое новое сведение, получаемое им впоследствии, находило себе там принадлежащее ему место между прежними; каким-то таинственным процессом мысли происходила в его уме кристаллизация, - и ему оставалось составившееся таким образом мнение, описание переносить на бумагу и трудиться только над выражением. – Что другой узнавал двадцатилетним опытом, при пособиях бесконечной начитанности, с советами целых факультетов, в учёной атмосфере, то Карамзин схватывал на лету, усматривал сразу, счастливо угадывал».
Конечно, в описании Погодина всё видится слишком легко. Между тем, отмеченный им счастливый дар Николая Михайловича был помножен на удивительную трудоспособность. Именно этим человеком, по сути, была основана та великая русская литература, которую мы знаем. Он наметил все пути её, обращаясь, кажется, ко всем жанрам, кроме драматургии. Поэзия, сентиментальные и романтические повести, повести исторические, публицистические и философские статьи, исторические очерки, театральная критика – всё было подвластно перу Карамзина. Мало кто знает, что и первая русская сказка в стихах, была написана Николаем Михайловичем. «Илья Муромец, богатырская сказка» стала предшественницей «Руслана и Людмилы» Пушкина, который в отроческие годы с удовольствием читал карамзинскую сказку и жалел, что та не была завершена.
Николай Михайлович был первым, кто высоко отозвался в печати о «Слове о полку Игореве» ещё до опубликования поэмы, отмечая среди достоинств её «энергический слог, возвышенно-героические чувства, волнующие картины ужасов, почерпнутые из природы».
Карамзин заложил и основы русской журналистики. Его «Московский журнал» и «Вестник Европы» на многие годы вперёд определи развитие журнального дела в России. Замечательно, что, выпуская «Московский журнал», Карамзин должен был брать на себя буквально всю работу по нему: он, редактор, писал материалы во все разделы, разбирал и правил присылаемое, переводил иностранные тексты… И при этом успевал работать над собственными книгами. К молодым авторам он обращался со следующим наставлением:
«Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо: но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении и часто - против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златою одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя.
…Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления? Если творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотою: то будь благоразумен, не безобразь художниковой кисти, - оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего.
… Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого - и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, - или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей. Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: тогда смело призывай богинь парнасских - они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину - ты не будешь бесполезным писателем - и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу.
…Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения - все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будет его наградою.
…Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором».
Наверное, никому другому не удалось бы справиться с таким грандиозным трудом, как История государства Российского. Ведь до Карамзина мы не имели подобного сочинения. Архивы же наши находились в состоянии заброшенном. Нужно было приложить невероятные усилия, чтобы из разных архивов, включая частные, выбрать все возможные сведения, разобрать, систематизировать их и, наконец, облечь в форму живого повествования. 20 лет Николай Михайлович свершал свой подвиг во имя сохранения нашей исторической памяти. «Народ, презирающий свою Историю, презрителен: ибо легкомыслен – предки были не хуже его», - отмечал он. А в другом месте указывал: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева, а не для Западной Европы».
Позднейшие историки найдут новые факты, будут полемизировать с отдельными оценками Карамзина, но все они будут стоять на фундаменте, который заложил он – великий и бескорыстный труженик. «Карамзин дал нам нашу историю», - напишет А.С. Пушкин. Да, так и есть. И может ли с чем сравниться этот подвиг?
Воспитанный на русской почве, Николай Михайлович, легко воспринимал достижения иных культур. Он был далёк от несовместимого с достоинством русского человека подражания оным, но, как немногие, умел взять из чужого лишь действительно полезное и перенести его на родную почву так, чтобы заимствованное сделалось совершенно своим. В этом помогало ему неизменное чувство меры и вкуса.
Одно из самых известных сегодня сочинений Карамзина – «Письма русского путешественника». В них писатель давал весьма интересные оценки странам, в которых ему довелось побывать. «Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, - писал он об англичанах, - думая, что в Англии, где всякого роду трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете, из чего вышло у них правило: «Кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли», - правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит и должна таиться! Ах! Если хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь, среди предметов богатства, цветущего изобилия и кучами рассыпанных гиней, узнает он муку Тантала!.. И какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? Например, болезнь... Англичане честны, у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего духа торговли, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ее оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все придумано, все разочтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу».
Во Франции Николаю Михайловичу привелось побывать в самые дни революции, и увиденное произвело на него немалое впечатление, подтолкнув к важному выводу: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция - отверстый гроб для добродетели и - самого злодейства. Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. «Утопия» {Или «Царство счастия», сочинения Моруса.} будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его руке сердца государей - и довольно. Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества, жизнь общественная украшалась цветами приятностей, бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: «Мы лучше сделаем!» Новые республиканцы с порочными сердцами! Разверните Плутарха, и вы услышите от древнего величайшего, добродетельного республиканца Катона, что безначалие хуже всякой власти!»
Николай Михайлович жёстко критиковал внешнюю политику России. За год до начала Отечественной войны он писал: «Никогда не забуду своих горестных предчувствий, когда я, страдая в тяжкой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все силы свои, чтобы помогать Англии и Вене, т.е. служить им орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды. Еще Наполеон в тогдашних обстоятельствах не вредил прямо нашей безопасности, огражденной Австриею, Пруссиею, числом и славою нашего воинства. Какие замыслы имели мы в случае успеха? Возвратить Австрии великие утраты ее? Освободить Голландию, Швейцарию? Признаем возможность, но только вследствие десяти решительных побед и совершенного изнурения французских сил... Что оказалось бы в новом порядке вещей? Величие, первенство Австрии, которая из благодарности указала бы России вторую степень, и то до времени, пока не смирила бы Пруссию, а там объявила бы нас державою азиатскою, как Бонапарте. Вот счастливая сторона; несчастная уже известна!.. Политика нашего Кабинета удивляла своею смелостью: одну руку подняв на Францию, другою грозили мы Пруссии, требуя от нее содействия! Не хотели терять времени в предварительных сношениях, — хотели одним махом все решить. Спрашиваю, что сделала бы Россия, если бы берлинское министерство ответствовало князю Долгорукову: «Молодой человек! Вы желаете свергнуть деспота Бонапарте, а сами, еще не свергнув его, предписывали законы политике держав независимых!.. Иди своим путем, — мы готовы утвердить мечом свою независимость». Бенигсен, граф Толстой ударили бы тогда на Пруссию? Прекрасное начало — оно стоило бы конца! Но князь Долгоруков летел с приятнейшим ответом: правда, нас обманули, или мы сами обманули себя.
Все сделалось наилучшим образом для нашей истинной пользы. Мак в несколько дней лишился армии; Кутузов, вместо австрийских знамен, увидел перед собою Наполеоновы, но с честию, славою, победою отступил к Ольмюцу. Два сильные воинства стояли готовые к бою. Осторожный, благоразумный Наполеон сказал своему: «Теперь Европа узнает, кому принадлежит имя храбрейших, — вам или россиянам», — и предложил нам средства мира. Никогда политика российская не бывала в счастливейших обстоятельствах, никогда не имела столь мало причин сомневаться в выборе. Наполеон завоевал Вену, но Карл приближался, и 80000 россиян ждали повеления обнажить меч. Пруссия готовилась соединиться с нами. Одно слово могло прекратить войну славнейшим для нас образом: изгнанник Франц по милости Александра возвратился бы в Вену, уступив Наполеону, может быть, только Венецию; независимая Германия оградилась бы Рейном; наш монарх приобрел бы имя благодетеля, почти восстановителя Австрии и спасителя немецкой империи. Победа долженствовала быть, по крайней мере, сомнительною; что мы выигрывали с нею? Едва ли не одну славу, которую имели бы и в мире. Что могло быть следствием неудачи? Стыд, бегство, голод, совершенное истребление нашего войска, падение Австрии, порабощение Германии и т.д... Судьбы Божии неисповедимы: мы захотели битвы! Вот вторая политическая ошибка! (Молчу о воинских.)
Третья, и самая важнейшая следствиями, есть мир Тильзитский, ибо она имела непосредственное влияние на внутреннее состояние государства. Не говорю о жалкой истории полуминистра Убри, не порицаю ни заключенного им трактата (который был плодом Аустерлица), ни министров, давших совет государю отвергнуть сей лаконический договор. Не осуждаю и последней войны с французами — тут мы долженствовали вступиться за безопасность собственных владений, к коим стремился Наполеон, волнуя Польшу. Знаю только, что мы, в течение зимы, должны были или прислать новых 100 т[ысяч] к Бенингсену, или вступать в мирные переговоры, коих успех был вероятен. Пултуск и Прейсиш-Эйлау ободрили россиян, изумив французов... Мы дождались Фридланда. Но здесь-то следовало показать отважность, которая, в некоторых случаях, бывает глубокомысленным благоразумием: таков был сей. Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, надлежало думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние, т.е. не принимать мира, кроме честного, без всякого обязательства расторгнуть выгодные для нас торговые связи с Англией и воевать со Швецией, в противность святейшим уставам человечества и народным. Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий. Умолчим ли о втором, необходимом для нашей безопасности, условии, от коего мы долженствовали бы отступить, разве претерпев новое бедствие на правом берегу Немана, — условии, чтобы не быть Польше ни под каким видом, ни под каким именем? Безопасность собственная есть высший закон в политике: лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство. Таким образом, великие наши усилия, имев следствием Аустерлиц и мир Тильзитский, утвердили господство Франции над Европою и сделали нас чрез Варшаву соседями Наполеона. Сего мало: убыточная война Шведская и разрыв с Англией произвели неумеренное умножение ассигнаций, дороговизну и всеобщие жалобы внутри государства. Мы завоевали Финляндию; пусть Монитер славит сие приобретение! Знаем, чего оно нам стоило, кроме людей и денег.
Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честью, справедливостью, вредим последнему. Мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов, — и я не знаю, что было горестнее для великодушия Александра — быть побежденным от французов, или принужденным следовать их хищной системе. Пожертвовав союзу Наполеона нравственным достоинством великой империи, можем ли надеяться на искренность его дружбы?»
При всём уважении к Европе и тому полезному, что было нами почерпнуто у неё в военном искусстве и иных отраслях, Карамзин был приверженцем национального развития России. Так утверждал он необходимость национального воспитания и образования: «Мы знаем первый и святейший закон природы, что мать и отец должны образовать нравственность детей своих, которая есть главная черта воспитания; мы знаем, что всякий должен расти в своём отечестве и заранее привыкать к его климату, обычаям, характеру жителей, образу жизни и правления; мы знаем, что в одной России можно сделаться хорошим русским… Пусть в некоторые лета молодой человек, уже приготовленный к основательному рассуждению, едет в чужие земли узнать Европейские народы, сравнить их физическое и гражданское состояние с нашим, чувствовать даже и самое их превосходство во многих отношениях! Я не боюсь за него: сердце юноши оставляет у нас предметы неяснейших чувств своих; он будет стремиться к нам из отдаления; под ясным небом Южной Европы он скажет: хорошо; но в России семейство моё, друзья, товарищи моего детства! Он будет многому удивляться, многое хвалить, но не полюбит никакой страны более Отечества».
Эту же тему развивает Николай Михайлович в известной статье «О любви к Отечеству и народной гордости»:
«Любовь к отечеству может быть физическая, моральная и политическая.
Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов, есть дело природы и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими, так сказать, утро и колыбель человечества. В свете нет ничего милее жизни; она есть первое счастие, - а начало всякого благополучия имеет для нашего воображения какую-то особенную прелесть. Так нежные любовники и друзья освящают в памяти первый день любви и дружбы своей. Лапланец, рожденный почти в гробе природы, несмотря на то, любит хладный мрак земли своей. Переселите его в счастливую Италию: он взором и сердцем будет обращаться к северу, подобно магниту; яркое сияние солнца не произведет таких сладких чувств в его душе, как день сумрачный, как свист бури, как падение снега: они напоминают ему отечество! - Самое расположение нерв, образованных в человеке по климату, привязывает нас к родине. (…)
С кем мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа их сообразуется с нашею; делается некоторым ее зеркалом; служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается в предмет склонности для сердца. Сия любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, воспитывались и живем, есть вторая, или моральная, любовь к отечеству, столь же общая, как и первая, местная или физическая, но действующая в некоторых летах сильнее: ибо время утверждает привычку. Надобно видеть двух единоземцев, которые в чужой земле находят друг друга: с каким удовольствием они обнимаются и спешат изливать душу в искренних разговорах! Они видятся в первый раз, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою какими-нибудь общими связями отечества! (…)
Но физическая и моральная привязанность к отечеству, действие натуры и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения - и потому не все люди имеют его. (…)
Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, - а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут,
Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию.
Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелию народа русского, а победа - вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы. Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться и которые отличались от других северных народов не только своею храбростию, но и каким-то рыцарским добродушием. Герои наши в девятом веке играли и забавлялись ужасом тогдашней новой столицы мира: им надлежало только явиться под стенами Константинополя, чтобы взять дань с царей греческих. В первом-надесять веке русские, всегда превосходные храбростию, не уступали другим европейским народам и в просвещении, имея по религии тесную связь с Царем-градом, который делился с нами плодами учености; и во время Ярослава были переведены на славянский язык многие греческие книги. К чести твердого русского характера служит то, что Константинополь никогда не мог присвоить себе политического влияния на отечество наше. Князья любили разум и знание греков, но всегда готовы были оружием наказать их за малейшие знаки дерзости.
Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наши долговременные бедствия. Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастии являют свое величие. Так Россия, терзаемая лютым врагом, гибла со славою: целые города предпочитали верное истребление стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Киева принесли себя в жертву народной гордости и тем спасли имя русских от поношения. Историк, утомленный сими несчастными временами, как ужасною бесплодною пустынею, отдыхает на могилах и находит отраду в том, чтобы оплакивать смерть многих достойных сынов отечества.
Но какой народ в Европе может похвалиться лучшею судьбою? Который из них не был в узах несколько раз? По крайней мере завоеватели наши устрашали восток и запад. Тамерлан, сидя на троне самаркандском, воображал себя царем мира.
И какой народ так славно разорвал свои цепи? Так славно ответил врагам свирепым? Надлежало только быть на престоле решительному, смелому государю: народная сила и храбрость, после некоторого усыпления, громом и молниею возвестили свое пробуждение. (…)
В военном искусстве мы успели более, нежели в других, оттого, что им более занимались, как нужнейшим для утверждения государственного бытия нашего; однако ж не одними лаврами можем хвалиться. Наши гражданские учреждения мудростию своею равняются с учреждениями других государств, которые несколько веков просвещаются. Наша людскость, тон общества, вкус в жизни удивляют иностранцев, приезжающих в Россию с ложным понятием о народе, который в начале осьмого-надесять века считался варварским.
Завистники русских говорят, что мы имеем только в высшей степени переимчивость; но разве она не есть знак превосходного образования души? Сказывают, что учители Лейбница находили в нем также одну переимчивость.
В науках мы стоим еще позади других для того - и для того единственно, что менее других занимаемся ими и что ученое состояние не имеет у нас такой обширной сферы, как, например, в Германии, Англии и проч. Если бы наши молодые дворяне, учась, могли доучиваться и посвящать себя наукам, то мы имели бы уже своих Линнеев, Галлеров, Боннетов. Успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели, собственно, так называемые науки) доказывают великую способность русских. Давно ли знаем, что такое слог в стихах и прозе? И можем в некоторых частях уже равняться с иностранцами. У французов еще в шестом-надесять веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими как в живописи мыслей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно по крайней мере внимание русских. (…) Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богатее гармониею, нежели французский; способнее для излияния души в тонах; представляет более аналогических слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при мне, что «язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, по его замечанию, не разумеют друг друга и тотчас должны прибегать к французскому». Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заключениям? - Язык важен для патриота; и я люблю англичан за то, что они лучше хотят свистать и шипеть по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них.
Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть сам собою, чтобы сказать: «Я существую морально!» Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем ездят и как убирают домы? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!»
Эти взгляды, явившиеся ещё в молодости и укрепившиеся, выросшие в целую концепцию русского консерватора с годами, явились поводом ко многим нападкам в адрес Николая Михайловича. Сперва они исходили от братьев-масонов, ряды которых Карамзин покинул аккурат накануне своего путешествия в Европу. Увлечённый таинственностью организации и мистикой, юный Николай Михайлович несколько лет состоял в организации Новикова, но со временем разочаровался в масонстве. «Братья» не стали удерживать его, но, однако же, и нескоро забыли обиду. Масоны предрекали крах карамзинскому «Московскому журналу», называя его «самым плохим, какой только можно представить», отрицали талант бывшего «собрата», сыпали обвинениями, сочиняли эпиграммы. Карамзин не отвечал на них, продолжая своё дело. Огромный успех оного был лучшим ответом всем злопыхателям.
Пройдёт более 30 лет, и на Николая Михайловича посыплются обвинения за его Историю – от декабристов, разгневанных идейным направлением этого труда. Михаил Орлов ругал Карамзина бесстрастным космополитом, а не гражданином. «Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не приклонит все предания к бывшему величию нашего Отечества?» - вопрошал он. Никита же Муравьёв желал видеть в истории примеры открытого сопротивления, а не «рабскую хитрость» Калиты и ругал Историю и историографа самыми последними словами. Из кружка декабристов вышло немало злых эпиграмм на Карамзина. В одной из них будущие бунтовщики величали его «хамом» «пред самовластья урной».
Карамзин и тут не стал отвечать. Впрочем, на замечания, высказанные одним из читателей в разговоре с ним, он спокойно заметил: «Вы, может быть, правы; но скажите, какое впечатление производит на вас моя «История»? Если оно не согласно с моим мнением, то в этом я не вижу беды. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностью события, разногласят с ним в выводах. Лишь бы картина была верна – пусть смотрят на неё с различных точек».
Николай Михайлович никогда не отвечал своим хулителям. Однажды его близкий друг И.И. Дмитриев настоял, чтобы он написал ответ на книгу адмирала Шишкова «О старом и новом слоге». Карамзин уступил и привёз требуемую статью. Дмитриев, выслушав её, был весьма доволен. «Ну, вот видишь, - сказал Николай Михайлович, - я сдержал своё слово: я написал, исполнил твою волю. Теперь ты позволь мне исполнить свою», - и с этими словами бросил тетрадь со статьёй в камин.
Исключительное достоинство всегда было отличительной чертой Карамзина. Когда-то его отец, отставной капитан, и его друзья объединились в Братское общество и принесли следующую клятву: «Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: «Тот дворянин, кто за многих один»; не бояться ни знатных, ни сильных, а только бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть их прихлебателями и не такать против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества». В автобиографической повести «Рыцарь нашего времени» Карамзин писал: «Леон в детстве слушал с удовольствием вашу беседу словохотную, от вас заимствовал русское дружелюбие, от вас набрался духу русского и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже и в знатных боярах: ибо спесь и высокомерие не заменяют ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляет человека от подлости и дел презрительных. - Добрые старики! Мир вашему праху!»
Этим заветам Николай Михайлович оставался верен всю жизнь. Он никогда не сторонился опальных и не искал участия сильных. Замечателен случай, когда в царствование Императора Павла Карамзин подкатил в коляске к дому увозимого солдатами в ссылку бывшего московского губернатора Архарова и на глазах у всех вручил ему мешок книг, «дабы в ссылке иметь ему развлечение чтением».
Николай Михайлович более всего боялся быть кому-то должным, а потому (редкий случай в кругу благородных людей) всегда жил по средствам, рассчитывая лишь на свой труд. «Он был непримиримый враг расточительности, - свидетельствует князь П.А. Вяземский, - как частной, так и казённой. Сам он был не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советовать её и государству. Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. (…) Можно сказать, что до самой кончины своей он не жил за счёт казны. Скромная пенсия в 2000 руб. ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительная. (…) В отношениях своих с Государем он дорожил своею нравственною независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной…»
|